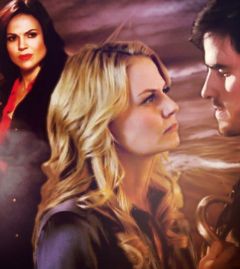Виктория Хислоп - Нить
– О чем вы? О чем вы говорите?
– Так он сказал. Тот малый, которому удалось сбежать. Говорит, всех газом отравили, а потом сожгли. В Польше.
Жандарм видел, как молодой человек, этот болезненного вида молодой еврей, начал раскачиваться взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед – молча, обхватив голову руками.
Казалось, целая вечность прошла, пока он перестал качаться, и тогда жандарм приобнял незнакомца одной рукой. Тот был весь застывший, как мертвец, а под ладонью чувствовались острые лопатки. Так они просидели с полчаса. Люди входили и выходили, глазели на них с любопытством, но они ничего не замечали. Жандарм всегда заходил сюда выпить кофе после смены, и теперь посетители слегка любопытствовали, что это за новый друг у него объявился.
Наконец он почувствовал, что Элиас шевельнулся.
– Я тебя домой отведу, – сказал жандарм.
Слово «домой» обрело какое-то новое значение. В этот миг Элиас не знал, кто он, где он, и еще меньше – где его дом. Ничего он, казалось, не знал. Раскачиваясь, он впал в какой-то транс, в нем онемела каждая клеточка, каждый мускул.
– Пойдем, отведу тебя домой, – настойчиво повторил жандарм.
Опять это слово. Домой. Что оно значит? Как теперь найти дом?
Элиас не мог вспомнить название улицы, на которой родился – когда, где? Помнил комнату, где спал вместе с братом, а больше ничего. Годы, когда он спал под открытым небом, почти всегда в горах, почти всегда дрожа от холода, были свежи в памяти, а все остальное провалилось в черную дыру амнезии.
Он попытался встать, но даже ноги, казалось, забыли, как двигаться.
– Слушай-ка, – сказал жандарм, – давай помогу тебе выйти. Может, легче станет на свежем воздухе.
На улице у Элиаса в голове немного прояснилось. Он увидел море и вспомнил, что живет далеко от него, на холме.
– Туда, кажется, – сказал он, тяжело опираясь на плечо жандарма.
На ходу он читал на табличках названия улиц, надеясь, что какое-нибудь из них отзовется в памяти.
Улица Эгнатия, улица Софоклус, улица Юлиана…
– Ирини, – пробормотал он, словно во сне. – Вот как она называется. Улица Ирини. Улица Мира.
– Я знаю, где это, – сказал жандарм. – Я тебя доведу. А то еще заблудишься, чего доброго.
На улице Ирини он спросил у Элиаса номер дома.
– Вот он, – пробормотал Элиас, показывая на дом номер семь. – Но мне надо сюда, в соседний.
Чувствуя, что его дело еще не закончено, неожиданный спутник подождал, пока Элиас постучит в дверь Евгении.
Через секунду и Евгения, и Катерина ужа стояли на пороге. До них тоже дошло известие о том, какая участь постигла евреев, и они с тревогой ждали возвращения Элиаса. Новости распространялись быстро, и хотя они основывались на рассказах одного-единственного очевидца, ни у кого не было сомнений в их правдивости.
Элиаса встретили мертвенно-бледные лица, на которых застыло выражение жалости. Это было невыносимо, и он прошел мимо них в дом резко, почти грубо.
Евгения хотела поблагодарить человека, который его привел, но, пока собралась окликнуть его, он уже ушел. Она поглядела ему вслед и заметила жандармский мундир. Странные времена настали, подумала женщина. Каких-нибудь несколько месяцев назад тот же самый человек мог бы арестовать Элиаса, но теперь, хотя она едва успела разглядеть его лицо, Евгения заметила, что жандарма тронуло горе несчастного.
Через несколько недель стали доходить новые вести из Польши, подтверждавшие массовое уничтожение евреев.
Немногие выжившие, вернувшиеся со свидетельствами из первых уст, с говорящими за себя номерами на руках и страшными рассказами о судьбе остальных евреев, скоро пришли к одному и тому же заключению: этот город им не рад. Как и Элиас, они увидели, что их дома и предприятия больше им не принадлежат, и были ли они, опять же как Элиас, в партизанах во время оккупации или чудом спаслись из концлагерей, – в Салониках им, казалось, не было места.
Катерина с Евгенией уходили на работу утром и возвращались вечером. Каждый раз они входили в дом тихонько, крадучись, словно хотели сделать вид, что их нет. Элиас к этому времени всегда спал, еда, которую они оставляли для него утром, исчезала, посуда была вымыта и убрана на место.
Целые недели он не выражал желания разговаривать с ними. Он знал, что некоторых евреев прятали во время оккупации христианские семьи. Элиасу казалось, что весь мир его предал, а прежде всего – соседи, которые должны были спасти его родных.
Евгения с Катериной догадывались о его чувствах и надеялись, что когда-нибудь им удастся объясниться. Случай представился однажды вечером, когда они пришли домой.
Элиас сидел за столом и, очевидно, ждал их. Он был чисто выбрит, а у его стула стоял мешок.
– Хотел попрощаться, – сказал он. – Сегодня уезжаю.
– Жаль расставаться, Элиас, – сказала Евгения.
– Ты же знаешь, что можешь жить у нас, – поддержала Катерина, – сколько захочешь.
– Меня здесь больше ничто не держит, Катерина. Одни воспоминания, – возразил Элиас, – а теперь даже самые сладкие воспоминания сделались горькими. – Тон у него был обвиняющий.
– Я не знаю, что ты думаешь, – умоляюще сказала Катерина, – но твои родные сами захотели уехать. Если бы они попросили нас о помощи, мы бы помогли. Клянусь.
– Это раввин их уговорил, Элиас. Никто из нас и представить себе не мог, что из этого выйдет. – Евгения роняла слезы.
– Так куда же ты едешь? – тихо спросила Катерина.
– Мы вместе едем, несколько человек. Уже давно сговорились. В Палестину.
– Думаете там остаться? – спросила Евгения.
– Да, – ответил он. – Возвращаться не собираемся. – В голосе его явственно слышалась горечь.
– Послушай, – сказала Евгения, – раз уж ты уезжаешь, тебе нужно кое-что забрать. Твои родители оставили нам кое-какие ценности на хранение. Это из синагоги. – Она встала. – Катерина, сбегай, пожалуйста, принеси одеяло.
Катерина скрылась наверху, а Евгения подошла к стене и сняла с нее картинки в рамках. Стала разрезать ножом подкладку, чтобы достать вышивки. Элиас склонился над ними – ему стало любопытно.
– Здесь фрагмент свитка Торы, а в другой какая-то рукопись, – сказала Евгения.
– А вот и одеяло, – сказала Катерина, протягивая ему этот шедевр вышивального мастерства.
Элиас только ахнул, такое оно было красивое. Евгения достала ножницы и хотела уже распарывать швы.
– Не надо! – воскликнул Элиас. – Это же произведение искусства!
– Но в нем парохет зашит…
– А можно, я его так заберу, как есть? – спросил он. – Так еще сохраннее будет!
– Элиас прав, Евгения. Давай свернем. Можешь даже спать на нем в дороге, как на подушке!
– А вот еще талит.
– Думаю, вам лучше его пока здесь сохранить. Может, я когда-нибудь еще приеду и заберу. А теперь мне пора идти, – сказал Элиас. – Корабль отходит в десять вечера, а мы все договорились встретиться в девять. Не хочу, чтобы они уехали без меня. – Он шагнул назад, словно для того, чтобы уклониться от объятий, взял свой узел и свернутое одеяло. – Спасибо, – сказал Элиас, – за все. – И вышел.
Женщины крепко обнялись. Только теперь, когда Элиаса уже не было в доме, их горе прорвалось наружу. Каждый день открывались все новые свидетельства преступлений против евреев. Они уже видели варварски разрушенные синагоги, видели разрытые древние кладбища, но физическое уничтожение миллионов мужчин, женщин и детей – было слишком для любого, кто пытался это осознать. Свидетельства того, что именно это и случилось с их друзьями, были уже неопровержимыми, и все равно поверить было невозможно.
Где-то в Северной Европе были уничтожены физические останки Розы, Саула, Исаака и Эстер – от них остались только миллионы частичек развеянного по ветру пепла, но Катерина и Евгения помнили о них всегда. В пламени каждой свечки, зажженной в маленькой церкви Святого Николая Орфаноса, эти воспоминания, правдивые и яркие, оживали, чтобы гореть вечно.
Глава 24
К апрелю большая часть страны снова погрузилась в кризис. Константиносу Комниносу пришлось закрыть один из складов, и он был в ярости – созданная им империя рушилась из-за гражданской войны. При оккупации его доходы оставались более чем удовлетворительными. Он всегда умудрялся организовать импорт и удовлетворить спрос, все еще имевшийся среди богатых клиентов и немцев, а теперь, как ему представлялось, меньшинство греков вставляло палки в колеса тем, кто пытался восстановить их собственную страну.
В свои семьдесят три года Комнинос не менял привычек, вставал на рассвете и засиживался в конторе до позднего вечера, делая исключение лишь для суббот, когда давал званые обеды. Он стремился произвести впечатление успешного предпринимателя и по-прежнему старался, чтобы его ассортимент был шире, чем у любого другого торговца тканями в городе. Ольга по-прежнему должна была одеваться для этих случаев в специально заказанные платья от кутюр, и Катерина по нескольку раз в месяц приходила на примерки или для того, чтобы передать что-то готовое.