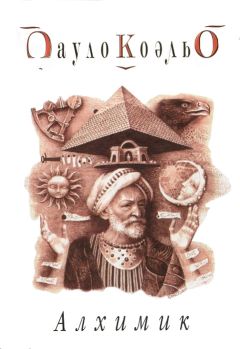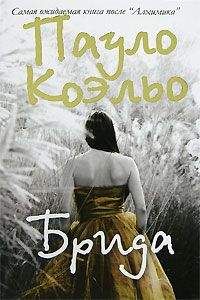Видиадхар Найпол - Территория тьмы
Он удивлял и смущал меня. Но, сам того не зная, я доставлял ему огорчение. Мадрасцы обычно не приглашают к себе домой; какое бы высокое положение они ни занимали, они наносят визиты сами. И я каждый день часами просиживал у себя в номере, принимая гостей, а «бои» постоянно приносили кофе для моих новых посетителей. Наверное, именно эти компанейские звуки болтовни и звяканья кофейных ложечек выводили моего соседа из себя. Однажды утром мы одновременно вышли из своих комнат. Не глядя друг на друга, мы запирали двери. Потом мы обернулись. Поглядели друг другу в глаза. И вдруг на меня обрушился стремительный поток американской речи — поток, не остановившийся даже для встречного приветствия.
— Как поживаете? Вы давно тут? Я в ужасном состоянии. Я здесь уже полгода и за это время потерял семь килограммов. Я ощутил зов Востока — ха-ха! — и приехал в Индию, чтобы изучать древнеиндийскую философию и культуру. Я схожу с ума. Как вам эта гостиница? По-моему, жуть.
— Он сгорбил плечи. — Эта еда! — Двигая челюстями, он ударил себя ладонью по темным очкам. — Я от нее слепну. Все эти люди! Они чокнутые. Они никого не принимают. Помогите мне. У вас в номере вечно толкутся разные люди. Вы знаете здесь разных англичан. Расскажите им обо мне. Познакомьте меня с ними. Может, они меня примут? Вы должны мне помочь.
Я обещал, что постараюсь.
Первый человек, с кем я заговорил об этом, сказал:
— Ну, не знаю. Опыт подсказывает мне, что лучше держаться подальше от таких людей, которые вдруг ударяются в духовность — например, откликаются на зов Востока.
Больше я ни с кем не пытался говорить на эту тему. И теперь я боялся встречаться с тем молодым американцем. Но больше я его не видел. Восстановилось железнодорожное сообщение между Мадрасом и Калькуттой, которое надолго прервалось из-за наводнений и переброски войск.
* * *На некоторых вагонах желтой краской было выведено: Женщины. На других — их было гораздо больше — мелом было написано: Военные. Это смотрелось очень неправдоподобно: целые поезда, набитые солдатами, ехавшие через все горести Индии на север, к бедствию на границе. Эти солдаты в оливково-зеленой форме, такие миловидные и воспитанные, и их офицеры с усами и тросточками совершенно преображали вокзальные перроны, у которых мы останавливались: они сообщали этим платформам драматизм и порядок. А для них как утешительна, наверное, была эта знакомая, готовая вот-вот пропасть из виду, убогая обстановка! Пухлый маленький майор, ехавший в моем купе (воду он вез в бутылке из-под шампанского), держался очень спокойно после расставания с женой и дочерью на Мадрасском центральном вокзале: там все трое просто тихо сидели рядышком. Теперь, по мере путешествия, его лицо прояснялось; он начал задавать мне типичные индийские вопросы: откуда я, чем я занимаюсь? Солдаты тоже повеселели. Как-то раз поезд остановился рядом с полем сахарного тростника. Один солдат выскочил и принялся срезать ножом стебли. Выпрыгнули еще несколько солдат и тоже стали срезать тростник. Появился сердитый крестьянин. Ему сунули денег, и гнев сменился улыбками и маханием на прощанье, когда наш поезд снова тронулся.
Близился вечер, и рядом с нами мчалась тень от поезда. Закат, сумерки, ночь; одна тускло освещенная станция за другой. Это было обычное путешествие по индийской железной дороге, но все, что прежде казалось бессмысленным, теперь, когда над этим нависла угроза, казалось достойным заботы и любви; и пока в мягком солнечном свете зимнего утра мы подъезжали к зеленой Бенгалии, которую мне давно хотелось увидеть, мое отношение к Индии и ее народу смягчилось. Оказывается, я многое принимал как должное. Там, среди пассажиров-бенгальцев, вошедших в поезд, был один человек — в длинном шерстяном шарфе и в коричневом твидовом пиджаке, надетом поверх бенгальского дхоти. Под стать небрежной элегантности этого наряда было его лицо с тонкими чертами и расслабленная поза. При всем этом убожестве и человеческом разложении, при всех взрывах зверской жестокости, Индия порождала множество красивых и изящных людей, которые вели себя изысканно-учтиво. Порождая жизнь в избытке, она отрицала ценность жизни; и вместе с тем, она награждала очень многих неповторимой человеческой личностью. Нигде больше люди не казались такими сильными, обкатанными и индивидуалистичными; нигде больше они не предлагали себя с такой полнотой и уверенностью. Узнавать индийцев значило радоваться людям как людям; каждая встреча становилась событием. Я не хотел, чтобы Индия пошла на дно; одна мысль об этом причиняла боль.
Вот в каком настроении я гулял по Калькутте — «кошмарному опыту» мистера Неру, по «самому жалкому городу мира», согласно одному американскому журналу, по «чумному чудовищу», как его назвал другой американский писатель, по последнему в мире оплоту азиатской холеры, согласно Всемирной организации здравоохранения. В этом городе, строившемся когда-то для двух миллионов жителей, теперь шесть миллионов жили на тротуарах и в тру-щоба х-басти.
«Чуха», — ласковым голосом проговорил официант в ресторане на станции Хоура и показал пальцем. «Глядите, крыса». И розовая, безволосая тварь, на которую почти не обратили внимания ассамский солдат и его жена (оба продолжали со смаком поедать рис с рыбой в соусе карри), лениво прошлась по кафельному полу и забралась на трубу. Это было обещанием ужаса. Но ничто из того, что я читал или слышал, не подготовило меня к красно-кирпичному городу, раскинувшемуся по другую сторону моста Хоура: если не обращать внимания на ларьки, на рикш и на толпы спешащих людей в белых одеждах, то с первого взгляда он казался двойником Бирмингема. А потом, в центре, уже в сумерках, он походил на Лондон: мглистый, в кляксах деревьев, Майдан напоминал Гайд-Парк; Чоунрингхи казался помесью Оксфорд-стрит, Парк-лейн и Бейсуотер-роуд — со смазанными из-за тумана неоновыми огнями, зазывавшими в бары, кофейни и в воздушные путешествия; а неподалеку — шире и грязнее Темзы — текла Хугли. С высокой, освещенной прожекторами трибуны посреди Майдана генерал Кариаппа, бывший главнокомандующий — с прямой спиной, в темном костюме, — обращался к малочисленной праздной толпе с речью на хиндустани (с сандхерстским[82] выговором) о нападении китайцев. А повсюду вокруг тащились со скоростью меньше 20 километров в час остроносые, выкрашенные шаровой краской калькуттские трамваи, плотно набитые у входов и выходов людьми в белом. Здесь — неожиданно, впервые в Индии — ты оказывался в большом городе, в узнаваемой метрополии с именами улиц — Элгин, Линдсей, Алленби, — которые не имели ни малейшего отношения к людям, заполонявшим эти улицы; эта несообразность лишь усугублялась по мере того, как туман сгущался в смог и, выезжая в пригороды, ты замечал среди пальм дымящиеся фабричные трубы.
Это был город, который — если верить базарным слухам — Чжоу Эньлай[83] обещал преподнести китайскому народу как рождественский подарок. Говорили, что индийские марварские купцы уже узнают о возможности развития торговли при китайском правлении; та же молва уверяла, что на Юге мадрасцы, несмотря на их возражения против хинди, уже учили китайский. Боевой дух был низок; администрация Ассама потерпела крах, и тут рассказывали о побегах и панике среди чиновников. Но город нагонял тоску не только поэтому. Калькутта была мертва — и китайцы тут совершенно не при чем. Раздел лишил ее половины пригородов и обременил несметным количеством угнетенных беженцев. Даже сама Природа взбунтовалась: река Хугли постепенно заиливалась. Но смерть Калькутты затрагивала самую ее душу. Помимо всего этого скудного блеска, мерзости и перенаселенности, грязных денег и опустошения, здесь присутствовала всеобщая индийская трагедия и ужасный британский провал. Ведь именно здесь англо-индийский союз некогда обещал принести плоды. Здесь начиналось индийское возрождение: многие индийские реформаторы были бенгальцами. Но здесь же этот союз и закончился взаимным разочарованием и разрывом. Перекрестного оплодотворения не произошло, и индийская энергия прокисла. Некогда Бенгалия, полная идей и идеализма, возглавляла Индию; теперь же, всего сорок лет спустя, слово «Калькутта» приводило в ужас даже индийцев, потому что вызывало в воображении толпы, холеру и коррупцию. Здешние эстетические порывы еще не угасли (каждый бенгальский сувенир, каждое изделие жестоко эксплуатируемых ремесленников-беженцев по-прежнему отличала особая чуткость к красоте), но они лишь жалостно подчеркивали общий фон упадка и разложения. В Калькутте не осталось больше лидеров, и кроме кинорежиссера Рэя и фотографа Джаны[84], здесь не было известных людей. Калькутта отошла от индийского эксперимента, как отходила от него — область за областью, личность за личностью — вся Индия. Британцы, построившие Калькутту, всегда были отдалены от своего детища; и они-то как раз выжили. Их фирмы по-прежнему процветали на Чоурингхи; а для сидящих теперь в кондиционированных офисах индийцев — вот он продукт индийского возрождения — Независимость означала лишь одно: возможность отдалиться, на манер британцев, от Индии. Что же тогда осталось от Индии? Что возбуждало такой интерес, такую тревогу? Может быть, осталось одно только слово, одна идея?