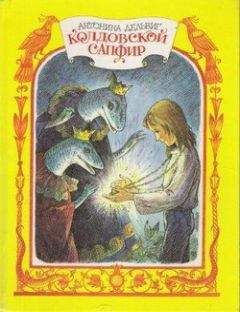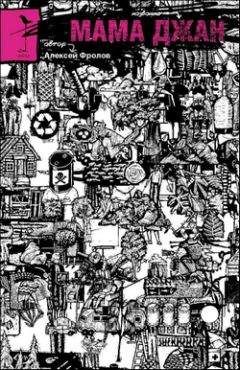Михаил Гиголашвили - Захват Московии
Я помог ей:
— А на подбрюшке… В подбрюхарии… ножки-ноженьки…
Алка предположила, что мыши могут часто болеть гриппом, потому что там, в трубах, где они сидят, холодно и дует. Я возразил, что мыши — умные звери и там, где холодно и дует, сидеть не будут, а будут искать — и найдут — место, где тепло и не дует, — например, на печи… На что Алка тут же твердо сказала:
— Нет, на печи мыши сидеть не могут — там кошки сидят… Где кошка — там мышам делать нечего. — На это я вспомнил нашу баварскую пословицу о том, что, когда кошки нету дома, мыши пляшут на столе, а Алка вспомнила, что у дядь-Коли была вредная кошка Машка, которая всегда сидела на шкафу и таращила глаза, когда Алка приходила проведать хозяина, а раз бесшумно соскочила со шкафа и кинулась на Алку, но дядь-Коль успел огреть её костылём — и она обиделась, ушла и неделю не приходила, а когда пришла, то принесла назло вшей, от которых дядь-Коль так и не смог избавиться.
Спор о потливых мышах на печах меня очень заинтересовал, сразу появилась интересная гипотеза, но Алку тянуло назад:
— А чего дядь-Коль?.. Сейчас, когда их столько у меня было, вижу, что он еще, может, самый хороший был. Нет, не думай, он меня не обижал, боже сохрани, что ты!.. Ласкал, дарил, что мог. «Лучом света» называл… А что он мог?.. Без ноги с войны. Сидел, писал что-то, статьи какие-то в журналы… Правда, после того, как мой батяня-комбат отхуярил его в дым его же деревяшкой, больше писать не смог… слёг и всё больше лежал… типа паралича… ничего, я ему и параличному пару раз приятное сделала, когда домой в отпуск приезжала… Жалко же, человек пострадал из-за меня. А мне не трудно…
— В отпуск? А где ты работаешь? — очнулся я, вспомнив из учебника фрау Фриш, что «все советские люди имеют хорошую работу, а летом едут в отпуск на побережье Крыма или Кавказа», причем фрау Фриш добавляла, что те, кто не работает, те не имеют права летом отдыхать на побережье Крыма или Кавказа, им надо сидеть в тюрьме…
Алка посмотрела мне в глаз:
— Не знаешь, что ли?.. Самуилыч же сказал… Зем-фирой работаю.
«Ночная бабочка», — вспомнил я, подумал, что я бы очень хотел иметь эту бабочку в Баварии — не надо ящика бабочек, пусть будет одна, но вот такая красивая, с мясистыми крыльями, грудинистая… и дневная, и ночная… Баварцы будут смотреть с завистью, они это любят…
— Ночная бабочка, — сказал я.
— В точку. Вот так летаю, летаю, — она показала руками полёт, — сяду на цветочек, как у тебя, — (она одобрительно погладила мою ширинку), — выпью нектар — и дальше… Вишь, кожа какая у меня классная?.. Атласная! От этого…
— Молокофья? — вспомнил я заветное слово.
Алка согласно встряхнула головой:
— Ну. Эликсир жизни. Малофейка, утробная струя. Цыганка говорила — чем больше пьёшь малофью, тем всё тебе мало и тем больше молодеешь…
— Тогда надо говорить «молодофья», — сообразил я.
— Тоже подходит. — Помолчав, сказала, уже каким-то другим тоном: — Ну а наши тёрки насчет Баварии как?
«Конечно, да-нет, посмотрим», — хотел ответить я по «неопределенной» схеме, но ответил твёрдым:
— Да. Что реально надо? — хотя край сознания ещё был бел и там отпечатывался ясный вопрос: правильно ли я сейчас делаю и какие последствия это может иметь?.. Но сейчас мне всё казалось правильным и понятным — а как же иначе?.. Warum nicht? Что может быть лучше этого — каждый день, утром и вечером, получать приятное?.. Нет, и о трёх ведрах, выделенных на жизнь, не стоит забывать… жизнь длинная… только утром тоже хватит… даст бодрость… Или только вечером, спокойный сон…
И тут, из чехлов и сетей хаоса, выпуталась золотая мыслерыбка: «А если её — к нам домой, горничной… прислугой?..» — хотя другой кусок открытого еще сознания мне сигналил, что прислуга у нас уже есть, фрау Клее, уже 20 лет работает, её куда деть? А уволить! И взять Алку!
Эта идея меня взбодрила, её тоже.
— А чего, класс! Жить буду у вас, по дому, что надо, сделаю, а в свободное время и подработать можно… Ты там у себя на улице для меня несколько бюргеров пригляди, так, посолиднее, в возрасте, которым 400–500 евро в месяц не жалко… Мне и хватит…
И она принялась развивать теорию, что мужики везде одни и те же, даже в Дубаях, куда она сдуру съездила недавно «на гастроли», лучше б не ездила, только заебли до смерти, а денег с гулькин нос. А мои мысли вдруг развдоились — одни погнались за носом Гульки, а другие встрепенулись, испугавшись: «Нет, это уж слишком! Вместе это не идет! Или горничная у нас — или бюргеры с улицы!..»
Про то, будет ли мама рада такой прислуге и уволит ли папа фрау Клее, я тоже не думал. Но насыпала же недавно фрау Клее, торопясь в церковь, соль в стиральную машину вместо порошка, отчего одежда стала маринованной, а машина — скрип-скрип… А до этого еще было — вместо муки взяла сослепу с полки сахарную пудру, обваляла в ней треску и пожарила, после чего мы все обтошнились, а папа ворчал, что её надо уволить… Вот пусть и уволит! Алку возьмём! Да, это казалось лучшим вариантом!
А Земфира-Алка, уже забыв, о чём шла речь, рассказывает опять что-то дико смешное, чего я даже охватить не могу, но и меня тоже тянет на смех и даже на хохот — да, я хотел хохотать, несмотря на то что в немецком языке такого глагола нет, только жизнерадостные славяне могут так открыто, от всего сердца, громко радоваться жизни, и это отлично, этому надо учиться:
— Прикинь, Фредя, встретились палочка Коха, бледная спирохета и болезнь Боткина. Палочка Коха начала залупаться: «Сейчас на человека нападу, все легкие ему выем!» Спирохета тоже корячится, гоношится: «Язву ему вгоню в рубанок!» Боткина ерепенится: «Сразу в печень ему вгрызусь, пообедаю!» Ужас! — (Алка передала мне «джойнт».) — Тут лучи Рентгена подоспели, зашипели: «Ах вы бациллы! Всех вас насквозь видим! Не дадим человека мучить! Всех на черный снимок в белом виде выведем!» — «Чего так? — удивились микробы. — С чего это вам человеку помогать вздумалось?» — «А с того, что без человека у нас работы не будет, зачахнем, — отвечают лучи. — Некого будет насквозь видеть». — («Как того Адама… внаизнаку… вывернутого…») Алка приняла от меня «джойнт» и закончила: — Ну и что, ты думаешь, лучи эти просто так хорошее человеку делают? Нет, фи-гушки!.. За так никто приятное не сделает… Они кричат: «Вы, микробы-долбоёбы, у вас ни головы, ни мозгов!
Не лучше ли человека в постоянном страхе держать, просвечивать и проскабливать?.. И вам, тварям, хорошо — питаетесь и жируете, и нам неплохо — на службе, при деле, просвечиваем и облучаем понемногу… А потом мы его облучим до смерти, а вы дожрёте, и за следующего возьмёмся!»
Я пытался понять смысл этой баснеписи — не мог, но тоже хохотал вместе с Алкой. А она, пуская от смеха слезу и хватая меня за рукав, без перехода поведала, со слов сестры, как у них в Холмогорах жила вечно беременная кобыла со странной кличкой Ёбин Рот, и вот этой зимой эта беременная кобылиха сослепу провалилась в яму с морозной водой, сверху подёрнутой льдом. Она лежала там, пока её не нашли, еле живую; ну, вытащили кое-как верёвками, влили трехлитровую банку самогона — отогреться; Ёбин Рот охмелела, ходить не могла, прилегла опять, мужики оставили её — типа «пусть отдыхает, в себя приходит», — остатки из банки допили и пошли куда-то добавлять, а кобыла очухалась — у неё ж похмелье, лошадиный махмурлук, после трёх-то литров самогона-то… захотела пить, побрела по замерзшей реке к проруби, провалилась в неё и окончательно утопла:
— Не судьба была жить… И смех и грех…
Я не знал, что сказать на этот скорбный рассказ, и спросил, почему у лошади такое странное имя, и получил объяснение: когда-то в Холмогоры вместе с английскими коровами завезли пару огромных шотландских тяжеловозов — «копыта во, с две мои сиськи!» — и эта утонувшая кобыла была помесью такого тяжеловеса с простой лошадью, а Ёбин Рот произошло от Робин Гуд, кони-то были шотландские.
— Так что — шагай вперед, мой Ёбин Рот! — закончила Алка и добавила, что кобыла в яму под снегом провалилась — это дело обычное, климат в Холмогорах паршивый, как и всюду: долгая суровая зима, холодная весна, куцее безалаберное лето, унылая осень с затяжными дождями, вечно хмурое небо. — Ничего не поделать, такая она, наша Рашка, иногда прямо с утра удавиться хочется, чтобы понурость эту не видеть!.. Слышь, Фредя, мы с сестрой как-то в церковь пошли в Холмо-горах, свечку за упокой души родителей поставить, так на церкви прибито объявление: «С просьбами не обращаться!» — а ручкой приписано: «А то заебали»… Понял, нет?
Это было очень печально, но, на счастье, бодрой походкой пришел Стоян и принёс в пакете что-то хорошее, стал вынимать и передавать нам назад:
— Вот… свеж хлебец… сиренце… — Он показал сыр. — Томаты, огурочки… Тут, в бурканчето, нещо, чушка, май[53], — подавал он. — Даже масельце…