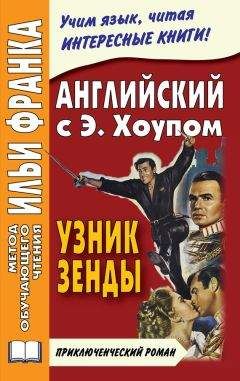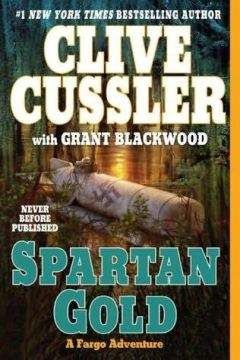Ласло Немет - Избранное
— Какой он ни сумасбродный, а все-таки сердце у него есть, — сказала она, помолчав. — Я говорила ему, чтоб и сегодня здесь переночевал, а на рассвете и ехал бы, долго ли на велосипеде, граф-то все равно в Лондоне. Но он ни в какую: вдруг молодая хозяюшка рассердится, у вас, мол, уговору не было, чтоб и я здесь ночевал.
Конечно, весь этот разговор, столь несвойственный Имре, Кизела выдумала экспромтом, только затем, чтобы дать Жофи повод отозваться о нем с симпатией. Жофи помолчала, потом со странным выражением сказала:
— Он прав.
— Прав? Кто прав? — вскинула голову Кизела; словно зарница, предвещая великую опасность, сверкнула отдаленно в ее Душе.
— Он прав. Комнату я вам сдала, а не вашему сыну. Нет никакой нужды приваживать в мой дом мужчин.
Кизела не сразу пришла в себя от внезапно обрушившегося на нее шквала, она едва справилась с дрожью. Это «приваживать мужчин» пылало и жгло, как ударившая рядом молния.
— Во-первых, не мужчин, милая, а моего сына, — заговорила она, сдерживая возмущение. — Во-вторых, в той комнате живу я, а не вы.
— А я не позволю устраивать из моего дома такое, — спокойно возразила Жофи.
— Такое? Что значит «такое»? Вы с ума сошли, милочка! — заверещала Кизела.
— Вы сами прекрасно знаете, о чем речь. Говорить с вами об этом я не буду, но скажу одно: никто — ни чей-то сын, ни чья-то дочь — больше сюда не войдет.
— Ах вот оно что! Не знаю, что сказал вам мой сын, может быть, по своей манере он выразился слишком вольно… — Кизела на секунду понизила голос и шагнула к затаившейся у печки тени в надежде, что все это недоразумение и еще можно склеить дружбу. Но Жофи молчала, и Кизела опять взвилась: — Но что бы он ни сказал, так из себя выходить нечего! Думаете, такое уж счастье для моего сына из дома Кураторов девушку взять?
— По мне, пусть дом Кураторов хоть сгорит, хоть рухнет, — резко отозвалась Жофи. — Мне только этот дом нужен, и я хочу здесь покоя.
— Вот она, благодарность! Как за ребенком вашим ухаживать, так я хороша была? — завизжала, потеряв голову, Кизела.
— Для меня вы никогда хороши не были, знаете сами. Вы ворона, это вы накликали на меня все беды.
— Я? Я накликала? Может, и на диване я прохлаждалась, покуда Шаника с горбуньей Ирмой шатался повсюду да играл в лужах у Хоморов на дворе? Славно придумали, милочка. Я накликала на нее беду! На такую мать, что умирающее дитя свое отталкивает от себя! Постыдились бы!
И прежде чем Жофи могла что-то ответить, Кизела с грохотом захлопнула за собой дверь. Слышно было, как она сгоряча наскочила на стул и громко выбранилась. Жофи постояла еще немного, похолодев от собственной смелости, потом опять откинулась спиной к печи и уставилась на светлый кружок на потолке, отбрасываемый чуть коптящей лампой.
На второй день троицы Илуш и старый Куратор после церкви зашли к Жофи. На Илуш был новенький, кремового цвета костюм, на шее — нечто вроде лохматой лисы, на руке — серебряный ридикюль. В церкви она сидела на первой скамье, рядом с супругой священника, и бесчисленные взгляды, обращенные к ней, пока молитва улетала к облакам, разрумянили ее лицо. В селе мужа она уже привыкла к обращению «сударыня», привыкла сидеть перед самым священником. Однако дома, в знакомой с детства церкви это было еще неизведанным наслаждением; завистливые взгляды убаюкивали ее, словно журчание ручья. Особенно гордилась она лисой. На троицу надеть лису! Что может яснее показать изнывающим от зависти землякам, в какие совсем иные сферы вознеслась она, насколько иные обычаи в ее нынешней, господской среде! Этот час купания в славе сделал ее счастливой и покладистой, и, хотя вечером она клялась, что больше не шевельнет пальцем ради Жофи, не станет компрометировать себя из-за грубиянки, сейчас все же сама предложила отцу забежать к «бедной сестре»: пусть видит, что они на нее не в обиде, как бы она ни держала себя. Им, которым дано все, следует быть снисходительными к ней в ее несчастье. В этой комнате, со своею лисой, которую она отстегнула и которая во время объятий чуть не слетела с ее плеч, Илуш казалась пришелицей из совершенно чужого мира; платочек, что был меньше ее носа, источал среди помрачневшей мебели аромат дорогих духов.
— Я заглянула к тебе, чтобы проститься, ведь ты ушла вчера, даже слова не сказав, — начала с дружеского упрека Илуш, в то время как Куратор тихо положил на кровать свою шапку, отороченную мехом, и опустился на стул у окна, чтобы было куда смотреть, если сестры заговорят о чем-нибудь таком, что ему лучше не слышать.
— Ты ребенка кормила, я не хотела мешать, — сказала Жофи с жестокостью страдальцев, которые, даже прося прощения, умудряются нанести обиду: как будто то, что она даже не взглянула на младенца, не было самым большим оскорблением для Илуш.
Илуш не обратила внимания на укол; в конце концов, Жофи ей сестра, можно и простить ее, при таком-то горе; однако ей нужно было хотя бы через какое-то подставное лицо все-таки выразить свое недовольство.
— Я и мужа звала, чтобы тоже зашел, но он еще сердится за вчерашнее. Я говорю ему: на Жофи нельзя обижаться, Йенёке, она еще не пришла в себя от несчастья своего. А он мне: несчастья и других постигают, однако же никто не грубит людям. И его, дескать, никто не имеет права из дома выживать.
— Мы и прежде не часто встречались с господином нотариусом, — сказала Жофи, чувствуя себя до какой-то степени отмщенной за свою пропащую жизнь благодаря этому своему ледяному «господин нотариус».
Илуш слегка покраснела.
— Ну нельзя же так, Жофика, все мы среди людей живем и должны знать, как вести себя. Господин Приккель — очень порядочный сердечный человек, с положением в обществе, и он вправе ожидать вежливого обращения в незнакомом доме. Он тебе не понравился, понимаю, но ведь всем нам многое не нравится. Что же было бы, если бы каждый стал это высказывать! А представь положение бедного Йенё: он пригласил этого человека к нам, и вдруг — такой прием. Я его от души пожалела вчера вечером. Илушка, говорит, да мне теперь в глаза господину Приккелю глядеть совестно, хоть из селения беги…
— А кто вас просил приглашать его, кому он нужен, ваш трактирщик? Если понадобилась ему старуха носки штопать, найдет и в своем селе. А меня прошу от этого избавить, не возить мне сюда стариков всяких!
— Стариков? — возмутилась Илуш. — Право же, тебе не стоило бы так говорить! Господин Приккель — старик? Сильный, приятный мужчина, и здоровье у него самое завидное. А что вдовец — ну, прости меня, это несчастье, а не преступление. Если так рассуждать, так и он мог бы пожимать плечами, ты-то ведь тоже вдова, в конце концов. Как ни крути, а вы очень даже друг другу подходите. Или тебе молоденького подавай?
Эта последняя фраза вырвалась у Илуш совершенно неожиданно; она и сама пожалела, зачем сказала в такой форме, но было уже поздно. Куратор, который погрузился было в созерцание рисунка на занавесках, счел своевременным вмешаться. Он встал, взял в руки шапку, показывая, что собрался уходить и только на прощание хочет сказать несколько слов.
— Как бы там ни было, а сейчас ссориться из-за этого — пустое дело. И вы добра хотели, не затем же его сюда привезли, чтобы только позлить Жофи. Но и Жофи не виновата, раз он ей не по душе. Насильно мил не будешь.
Однако выпад Илуш уколол Жофи в самое сердце, и теперь ее было не остановить. Выпрямившись, она стала вдруг словно на голову выше отца. Исхудавшее лицо ее стало белым, как у покойника, и на этом лице безумным блеском сверкали глаза.
— У вас, папа, всегда все правы. И она хотела добра, и я хотела добра, и вы, папа, хотели добра, и трактирщик хотел добра. Ну, а мне ничьего добра не нужно, вот до чего меня довели всякие доброжелатели. Так что теперь пусть никто не желает мне добра, а не то я плюну ему в глаза. И если у кого хорошо жизнь пошла, нечего тыкать другого носом, что он-де разнесчастный такой. Что ж из того, если она до тех пор кривлялась, на шею вешалась, покуда за нотариуса этого не выскочила? Ну и радуйся, выставляй напоказ свою серебряную сумочку, тряси лисьим хвостом, но меня не хлопай по плечу: ничего, мол, Жофи, подбросим и тебе какой-нибудь огрызок. И если она хочет сказать, что ее возлюбил господь, а мною побрезговал, ее правда! Этот господь и дитя ей оставляет, мое же отбирает! Но пусть не красуется здесь перед моим носом. И пусть не гадает, кто мне нужен, я-то помню ее с тех пор, как она под себя ходила, и знаю, что она всегда была такой, как сейчас: подлиза, ябеда, обезьяна-притворщица!
— Право, ты великолепна, Жофи, — нервно рассмеялась Илуш. — Если бы я не принимала в расчет все обстоятельства, по-другому бы с тобой поговорила.
— Хватит, оставьте это, — повернулся к двери старый Куратор. — Тут ты несправедлива была, Жофи, дочка.
— Несправедлива? — вспыхнула Жофи. — А со мною были справедливы? Кто? Бог? Или вы все? Сунули меня сюда, в этот склеп, живой в гроб положили. Посадили мне на шею старуху эту, чтобы за каждым движением моим следила. И мне пришлось впустить ее, иначе вы же первые меня бы и ославили. А теперь, когда я вся плесенью от горя покрылась, гнию здесь заживо, вы бы еще и из села меня выкинули, чтоб стонов моих не слышать. Ну что ж, я понимаю, такой человек в семье всем в тягость: ведь на него как взглянешь, так и вздохнешь, есть к тому охота, нет ли. Но кто вам велит вздыхать-то? Радуйтесь двум другим своим дочерям: одна вон нотариуса подцепила, другая, если и дальше так пойдет, за шофера выскочит. Будут в автомобилях друг к другу ездить. Вы же одного внука с колен спустите, другого посадите. А ко мне хоть бы и вовсе не приходили, и жалеть меня нечего, я и так знаю, что для вас мука смертная горестный вид принимать, на меня глядючи!