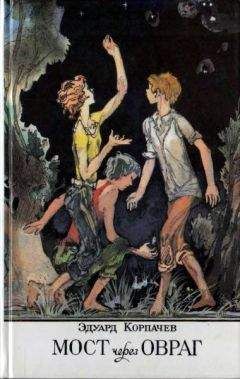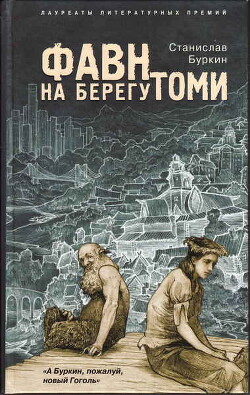До свидания, Сима - Буркин Станислав Юльевич
Дождь шел три дня, то усиливаясь, то повисая мглистой моросью. По склону горы за шоссе выше нашего дома сошел черный оползень, и по топкой дороге, загибавшейся вниз к нашему дому, полились черные струи жидкой грязи. Была такая сырость и слякоть, что страшно было выйти из дому. Утром тридцатого декабря мы собрали вещи, бросили казавшийся как никогда чужим и зловещим дом и переехали в дешевую гостиницу на другом конце Сен-Мартена.
Вечером в гостинице у меня скакнула температура, и я весь мокрый пролежал до самой ночи, полусидя под двумя тяжелыми одеялами перед телевизором, на экране которого мелькали никак не связанные для меня картинки. Я попросил Мерседес посидеть со мной, когда пил приятно обжигающее горло густое молоко с медом и с желтой морщинистой пенкой, которая прилипала к моим губам. Вдруг Мерседес вскочила, схватила пульт и прибавила звук, чуть ли не на полную громкость. Я с усилием и болью в глазах сконцентрировал внимание на телевизоре и увидел какие-то полицейские сводки.
— Это он! — сказала завороженная экраном Мерседес.
Я постарался еще больше приглядеться, но ничего не видел, кроме мелькавших проблесковых маячков, людей в ярких светоотражающих жилетах, суетящихся за спиной у комментаторши с микрофоном.
— Что случилось? — бессильный что-либо понять, спросил я у Мерседес.
— Его нашли. Энрике попался!
И тут же я услышал рыкающий хриплый голос и увидел лохмы нашего непутевого отца, когда его усаживали в полицейскую машину. Он кричал:
— Мои дети не будут умирать с голоду! Энрике Хомбрэ и без ноги их прокормит! Пусть все это знают…
В конце репортажа показали зеленоватую съемку, сделанную камерой внутреннего наблюдения. Грузовик въезжает в зоомагазин, вдребезги разнося витрину, из кабины вылезает хромой Энрике и по очереди в упор расстреливает из ружья морских свинок и кроликов в клетках.
Ночью я очнулся от мутного полусна, разбудил Мерседес и сказал ей, что у меня, скорее всего, воспаление легких и что я умираю. Она подняла меня на смех, отвернулась и продолжила спать. Тогда я опять растолкал ее и сказал, что у меня пневмония и чтобы она, черт подери, что-нибудь уже предпринимала. Наконец она раздраженно встала, дала мне какую-то таблетку со стаканом холодной воды, и я, немного успокоившись, сомкнул горячие веки и крепко уснул.
Когда я весь больной и мокрый ненадолго проснулся, оттого, что в коридоре громко хлопали двери, мне не хотелось открывать глаза, и я считал, что смогу пролежать так целую вечность и мне не будет хотеться открыть глаза. Потом я еще несколько раз просыпался с той же мыслью, и каждый раз двери хлопали все ближе и больно отдавались у меня в голове. Потом я оказался чуть ли не в самом коридоре, так как вокруг меня все бегали и оглушительно говорили. Меня трясло с головы до ног, и я щелочками приоткрывал глаза и видел взволнованное лицо одетой в гостиничную пижаму Мерседес, словно видение, сотканное из света, тени и щемящей в паху тоски. Еще я видел каких-то усатых французов, строго смотревших то на нее, то на меня. Кто-то еще был с другой стороны кровати, но я не мог повернуть голову из-за какой-то свинцовой боли у меня в шее, как раз с той стороны.
Потом меня подняли вместе с одеялом, завернули в золотую фольгу и понесли, как мне думалось, обратно в сырой нетопленный дом, отгороженный от Сен-Мартена горой. Но вместо этого привезли в людный электрический рай, где меня истязали, трясли и делали мне уколы. И вдруг, после быстро промчавшейся бесконечности, сквозь токи и давление в тысячу атмосфер, находясь еще в бредовом состоянии, я вынырнул в какой-то зыбко оформленной реальности и увидел папу с мамой, мрачно стоявших в больничных халатах с лицами как на моих похоронах.
Через три недели я очутился дома, а еще через пару месяцев мне казалось, что все это происходило очень давно и, возможно, даже не со мной. Хотя после возвращения я чувствовал себя очень повзрослевшим и любил кое-чего пересказать друзьям. Со временем я стал любить даже жутковатые воспоминания, включая самое мрачное из них, коим являлся человек по имени Энрике Хомбрэ, и всю свою молодость я мечтал вернуться в Европу и еще разок встретить Мерседес. И однажды я действительно увидел ее.
Глава девятая
Личинки матери нимф
1
После возвращения в Лондон мне было приказано ожидать инструкций по электронной почте. Деньги на мой счет поступили, и я из какого-то почти суеверного страха поспешил получить их в банке наличными. У меня еще никогда не было таких денег на руках, и я волновался, идя с ними по городу.
В кафе на Бойль-стрит я зашел в Интернет, и мне было приказано встретиться на станции метро с человеком, который передаст мне предмет, который я должен буду в свою очередь передать Леваде во время нашей встречи в Шотландии. В метро я даже не успел понять, кто мне всучил в толпе черный полиэтиленовый мешок с увесистой штуковиной. Получив подозрительный предмет, я сразу отправился на северный автовокзал и большим автобусом поехал в Глазго. Я даже и смотреть не хотел, что это за штуковина, но Цихановский написал, что мне ничего не придется объяснять Леваде и что он очень обрадуется, когда я ему передам эту вещь.
В близком общении Александр Лавада оказался вполне нормальным человеком, остроумным собеседником, и мне было трудно заподозрить его во всех тех страшных грехах, в которых его обвинял Цихановский. Мы ужинали с ним, точнее, он ужинал, а я потягивал пиво в углу пустынного ресторана гостиницы «Эршир». Был он плотненьким человечком с торжественно поблескивающей лысиной, крохотными заостренными кверху усиками и мультяшно крякающим голосом. Говорил он очень быстро, по-еврейски сдвигая и поднимая брови домиком, постоянно запинался и бойко жестикулировал, так что вилка и нож летали над столом как проклятые.
О политике мы почти не говорили, он только рассказал мне пару анекдотов про Путина и Медведева, все остальное время он рассказывал о принципиальной разнице между западными и российскими деловыми кругами, при этом сам был на стороне последних.
В конце беседы я поблагодарил его за пиво и сказал, что у меня есть кое-чего от его московских друзей и что это находится под столом. Он очень заинтересовался и, жуя, приподнял скатерть и заглянул под стол. Я ногой придвинул ему пакет, и он, кряхтя, полез под стол, чтобы взять его в руки. Он с радостным смехом вытащил из пакета стальной яйцевидный предмет, опоясанный желтой полоской, и принялся его вертеть в руках и всячески меня благодарить. А я сидел и думал о том, что уже где-то видел эту вещь. Клянусь, что я уже где-то видел ее. Я даже держал ее в руках в детстве. Но что это, я никак вспомнить не мог.
— Вам, конечно, заплатили за эту посылку, но все же не откажитесь принять от меня небольшой дар.
Он достал чековую книжку и красивую авторучку с золотым пером.
— Честное слово, не стоит, — сказал я неуверенно.
— Почему же? — удивился он.
— Я так и так ночью улетаю в Россию. У меня не будет возможности обналичить ваш чек.
— Ну конечно! Простите ради бога, — суетливо извинился он и полез за бумажником.
Я встал. Он тоже встал.
— Наличными у меня только двести фунтов, — сказал он, виновато улыбаясь. — Но если будете в Шотландии и вам понадобится какая-либо помощь, то обращайтесь смело.
Мы обменялись рукопожатием, во время которого он всучил мне деньги, и я спешно вышел на улицу. Идя под дождем, я то и дело оборачивался, ожидая не то взрыва, не то погони, но ничего не случилось, и я успешно добрался до вокзала и поехал на юг.
Вообще в Англии мне дышалось намного свободнее, чем в России. Вернувшись в Лондон, первым делом Джеймс Бонд поехал к жене (у меня еще был ключ от нашей квартиры), принял ванну и провел там еще часа четыре в расслабленном одиночестве в родном халате, по которому успел стосковаться. А вы когда-нибудь тосковали по пижаме, халату или тапочкам, — по всем тем простым вещам, в которых концентрируется все привычно-уютное? Тем более мне было искренне приятно, что я наконец-то могу дать ей денег. Я оставил на ее ночном столике записку и тысячу фунтов. Взял гитару, побренчал немного, потом снял трубку радиотелефона и позвонил в офис «Скрибл».