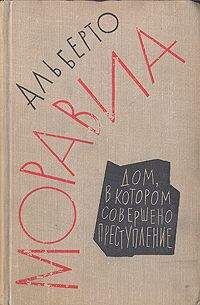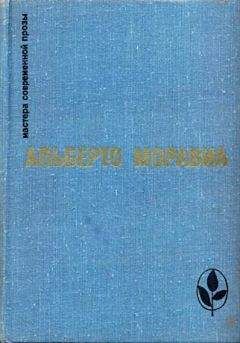Альберто Моравиа - Скука
Первым следствием моего маниакального стремления завладеть Чечилией, играя на ее корыстолюбии, стало то, что расходы на эксперимент привели меня к сближению с матерью, к которой до сих пор я обращался лишь за самым необходимым. Теперь я уже жалел, что выказывал в прошлом столько презрения к деньгам; я понимал, что таким образом я приучил ее к мысли о моем бескорыстии, от которого сейчас охотно бы отказался, ибо теперь в отношениях с Чечилией мне приходилось играть роль не то чтобы скупца, но человека чрезвычайно экономного. Но сделанного не воротишь: когда-то я желал быть бедным и разве мог я предположить, что Чечилия заставит меня пожелать быть богатым? Теперь же было слишком поздно менять представление, которое сложилось обо мне у матери, тем более что это представление как нельзя лучше соответствовало ее врожденной склонности к экономии. Однако я знал, что мать всегда хотела давать мне немного больше, чем давала, хотя знал также и то, что она не любит ничего давать даром. Сейчас мать упорно стремилась вернуть меня домой, и я прекрасно понимал, что и теми деньгами, которые она столько раз предлагала мне раньше, и теми, которые она давала мне теперь, по мере того как я их просил, она преследовала одну и ту же цель: она надеялась создать ситуацию, при которой сможет навязать мне свою волю. Я же пытался оттянуть неизбежное столкновение тем, что каждую вспышку щедрости компенсировал послушанием и сердечностью, которые ей были внове.
Убедившись, что мать не только не отказывает мне в деньгах, но как будто поощряет к тому, чтобы я просил еще, я внезапно понял, что между нами установились, в сущности, те же самые отношения, которые были у меня с Чечилией: посредством денег мать пыталась мною завладеть. На этом, однако, сходство кончалось, потому что я не был похож на Чечилию и, главное, мать не была похожа на меня. В самом деле, те самые деньги, которым мы с Чечилией, хотя и по разным причинам, не придавали никакого значения, так что они как бы переставали быть деньгами и становились частью любовного ритуала, в отношениях между мной и матерью сохраняли свой изначальный, свойственный им смысл. Разумеется, мать меня любила, но из-за того, что она меня любила, она вовсе не собиралась давать мне деньги бесконечно, то есть она не хотела сделать ту единственную вещь, которая могла бы лишить деньги их обычного смысла.
Я с очевидностью убедился в этом различии, когда однажды попросил у матери сумму более значительную, чем обычно, прибегнув, как позже выяснилось, к не совсем удачному предлогу. Дело было после обеда, мать, как обычно, отдыхала у себя в комнате — лежала поперек кровати, свесив ноги и прикрыв лицо согнутой в локте рукой. Я сидел в кресле в изножье постели и, насколько я помню, расспрашивал ее об отце: то была одна из немногих наших общих тем, которая к тому же продолжала меня интересовать. Мать отвечала все короче, все неразборчивее, казалось, что она засыпает. И тут неожиданно, безо всякой подготовки, я сказал:
— Кстати, послушай-ка, мне нужно триста тысяч лир.
Я увидел, как она очень медленно отодвинула руку, освободив один глаз, и этим глазом на меня посмотрела. Потом сказала, и в ее сонном голосе прозвучала неприязнь:
— Я дала тебе пятьдесят тысяч в субботу, а сегодня вторник. Куда тебе столько денег?
Я ответил в соответствии с заранее разработанным планом:
— Это только первый взнос из суммы, которую мне предстоит выплатить. Я решил привести в порядок студию, она в ужасном состоянии.
— А во сколько обойдется все?
— Разве в три больше. Все оштукатурить, да еще полностью переоборудовать ванную, повесить новые занавески, перестелить пол, ну и так далее.
Мне казалось, что это я неплохо придумал. Студию действительно пора было ремонтировать, и, таким образом, у меня возникал хороший предлог, чтобы вытянуть у матери миллион, а то и полтора. С другой стороны, я знал, что из-за упорной неприязни, которую мать питала к студии, она никогда не решится появиться на виа Маргутта и проверить, как я потратил ее деньги.
Так что я уверенно ждал ответа. Мать не шевелилась; казалось, что она в самом деле заснула. Но в конце концов из-под руки, которой она прикрывала лицо, до меня донесся ее ясный, совсем не сонный голос:
— На это я тебе денег не дам.
— Почему?
— Потому что не вижу необходимости дарить миллион домовладельцу, в то время как ты прекрасно можешь жить на Аппиевой дороге.
Я понял, куда она клонит, с опозданием сообразив, что придуманный мною предлог был единственным из всех, к которому мне никак не следовало прибегать. Тем не менее я притворился удивленным и воскликнул:
— При чем тут это?
— Однажды ты дал мне понять, что собираешься переехать, — проговорила мать медленно, жестко, монотонно, — и я, как ты, наверное, заметил, тебя не торопила. Но сейчас ты просишь у меня денег на ремонт студии. Отсюда я делаю вывод, что свое обещание ты взял обратно.
Я сказал не без раздражения:
— Я ничего тебе не обещал. Более того, я никогда не скрывал отвращения, которое вызывает у меня перспектива совместной жизни.
— А в таком случае, дорогой Дино, ты не должен удивляться, что на этот раз денег я тебе не дам.
Два дня назад я отдал Чечилии последние тридцать тысяч, которые у меня были, а сегодня вечером она должна была прийти ко мне снова. Разумеется, я мог ничего ей не давать, как делал уже много раз, но не так давно я заметил, что без этого я уже не мог обойтись сам. И не потому, что, давая ей деньги, я обретал иллюзию обладания, наоборот, эти деньги придавали недоступности Чечилии новый оттенок — оттенок бескорыстия. Именно потому, что она не давала завладеть собой посредством денег, я чувствовал себя обязанным ей их давать, в точности так, как, почувствовав, что не сумел овладеть ею посредством полового акта, я несколько раз повторял самый акт. Деньги и половой акт давали мне минутную иллюзию обладания, без которой я уже не мог жить, хотя знал, что за нею неизбежно последует глубокое разочарование.
Я взглянул на мать, которая продолжала лежать на спине, прикрыв лицо согнутой рукой; потом вспомнил о Чечилии, о том, как в тот самый момент, когда я вкладывал в ее руку деньги, она приоткрывала рот навстречу моему поцелую, и почувствовал, что ради денег способен на преступление. Особенно притягивала меня рука, которой мать прикрывала глаза: худые пальцы были унизаны драгоценными кольцами, Достаточно было сдернуть одно такое кольцо, чтобы обеспечить Чечилию по крайней мере на месяц. Потом, не знаю сам почему, я вспомнил довольное, хотя и себе на уме, лицо матери в тот день, когда она позволила мне ухаживать за Ритой, и внезапно переменил весь свой план. Я встал, подошел к кровати, сел рядом с матерью и сказал с деланной нежностью: