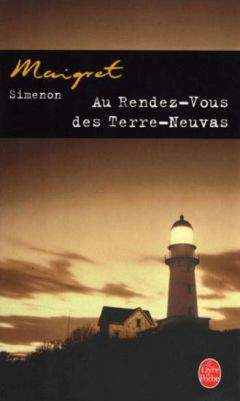Паскаль Мерсье - Ночной поезд на Лиссабон
Лицо О'Келли, разгладившееся было, как у человека, который, наконец, высказал давнишнюю боль, снова омрачилось и сделалось дряхлым.
— Когда мы разошлись, я поначалу хотел продать аптеку и вернуть ему деньги. А потом передумал. Это значило бы зачеркнуть все, что было между нами, все долгие счастливые годы нашей дружбы. Так я бы осквернил нашу минувшую близость и былое доверие. Я оставил аптеку за собой. А через несколько дней после этого решения внезапно ощутил нечто странное: она стала по-настоящему моей, эта аптека, больше моей, чем раньше. Я так и не понял этого чувства. И до сих пор не понимаю.
— Вы забыли выключить в аптеке свет, — сказал на прощанье Грегориус.
О'Келли рассмеялся.
— Не забыл. Это специально. Свет там горит всегда. Всегда. Сущее мотовство. Чтобы взять реванш за нищету, в которой я вырос. Свет лишь в одной-единственной комнате, спать ложились в темноте. Пару чентаво карманных денег я тратил на батарейки для карманного фонарика, с которым читал по ночам. Книги я воровал. Книги нельзя продавать за деньги, считал я тогда и считаю до сих пор. У нас на много месяцев отключали электричество за неуплату. «Cortar a luz!»[78] — никогда не забуду этой угрозы. Мелочи, от которых никогда не отделаться. Как пахнет нищета, как жжет пощечина, как тьма опускается на дом, как ее взрывают проклятия отца… В первое время ко мне в аптеку наведывались полицейские из-за этого света. Потом оставили в покое.
23
Натали Рубин звонила трижды. Грегориус перезвонил ей.
— Словарь и португальская грамматика вообще не были проблемой, — затарахтела она. — Вы в нее влюбитесь! Как кодекс и куча таблиц с исключениями, составитель прямо помешан на этих исключениях. Как вы, простите.
Сложнее обстояло дело с историей Португалии. В продаже было много, и Натали остановилась на наиболее полной и компактной. Все книги уже отправлены. Персидскую грамматику, которую он просил, еще можно найти, ей обещали экземпляр в середине следующей недели. А вот история Сопротивления — это просто головная боль. Библиотеки были уже все закрыты, так что теперь она попытается только в понедельник. У Хаупта ей посоветовали заглянуть на семинар романистов и там спросить, она уже знает, к кому обратиться в понедельник.
Грегориус пришел в ужас от ее рвения, хоть и подозревал, что она способна на нечто подобное.
— Я с удовольствием приехала бы в Лиссабон, чтобы помочь вам в ваших изысканиях, — услышал он откуда-то издалека.
Посреди ночи он проснулся в полной прострации, не понимая, приснилось ему это или было на самом деле. Кэги и Люсьен фон Граффенрид все время восклицали «круто!», пока он играл с Педру из Юры, который двигал фигуры лбом и в ярости бил головой по доске, когда Грегориусу удавалось перехитрить его. С Натали Рубин играть было еще сложнее, потому что она играла без фигур и в полной темноте.
«Я владею португальским и могу вас поддержать!» — шептала она.
Он пытался ответить ей по-португальски, но слова никак не шли — он чувствовал себя как на экзамене.
«Minha Senhora, — начинал он снова и снова, — minha Senhora…[79] — и не знал, что сказать дальше.
Он позвонил Доксиадесу.
— Нет, что вы, — ответил грек, — совсем не разбудили. Со сном опять проблемы. И не только со сном.
Такого Грегориус от него еще никогда не слышал. Он испугался.
— В чем дело?
— Ах, ничего страшного, — сказал грек. — Просто устал. Допускаю ошибки. Пора кончать.
— Кончать? С чем кончать? С практикой? И что потом?
— Например, поехать в Лиссабон, — засмеялся Доксиадес.
Грегориус рассказал о Педру, о его скошенном лбе и эпилептическом взгляде. Грек вспомнил аборигена из Юры.
— После этого вы играли скверно, — заметил он. — Для ваших способностей.
Начало светать, когда Грегориус заснул. Двумя часами позже, когда он снова проснулся, над Лиссабоном лучилось безоблачное небо и люди ходили без пальто. Он пошел к парому и взял билет до Касильяш, где в доме престарелых обитал Жуан Эса.
— Я так и знал, что вы сегодня придете, — сдержанные слова с его тонких губ срывались как огнедышащий фейерверк.
Они пили чай и играли в шахматы. Пальцы Жуана дрожали, когда он брал фигуру и ставил ее с легким клацаньем на доску. И каждый раз Грегориус вздрагивал от вида его изуродованной руки.
— Не боль и не страдания самое страшное, — сказал Эса. — Самое страшное — унижение. Унижение, когда чувствуешь, что делаешь в штаны. Когда я вышел, во мне горела жажда мщения. Пылала. Сжигала. Я каждый вечер ждал в укрытии, когда эти палачи выйдут «со службы». Они выходили в скромных плащах, с кейсами, как обычные служащие какого-нибудь бюро. Я следовал за ними до дома. «Око за око». Единственное, что меня спасло, была брезгливость. Брезгливость дотронуться до них. А надо было это сделать, выстрел — слишком легкий исход для таких. Мариана полагала, что мне надо пройти курс реабилитации. Нет, «реабилитироваться», как они это называют, я не желаю. Терпеть не могу «реабилитированных». Все эти «реабилитированные» — либо оппортунисты, либо усталые равнодушные люди.
Грегориус проиграл. Уже через несколько ходов он понял, что не хочет выигрывать. Все искусство состояло в том, чтобы не дать этого почувствовать, и он решился на рисковый маневр, который мог заметить разве что такой ас как Эса. И тот заметил.
— В следующий раз не поддавайтесь мне, — усмехнулся Эса, когда раздался сигнал на ужин. — Иначе я рассержусь на вас.
Они жевали приютскую еду, которая не имела вообще никакого вкуса. «Это каждый день так», — насмешливо предупредил Эса, а когда Грегориус взглянул на его лицо, впервые увидел по-настоящему открытую улыбку.
За ужином Грегориус узнал о брате Жуана, отце Марианы, женившемся на деньгах, и о ее, тоже неудачном, браке.
— А почему вы не спрашиваете об Амадеу? — спросил Эса.
— Я пришел к вам, а не из-за него, — опустив глаза, ответил Грегориус.
— Хорошо, пусть не ради него вы здесь, — сказал Эса после ужина, — но я хочу кое-что вам показать. Он дал мне это после того, как однажды я спросил, что он там все пишет. Я столько раз это читал, что знаю почти наизусть.
И он перевел Грегориусу оба листа.
O BÁLSAMO DA DESILUSÃO — БАЛЬЗАМ РАЗОЧАРОВАНИЯ
Разочарование обычно считают несчастьем. Опрометчивый предрассудок. Как, если не через разочарование, мы можем познать, чего ждем и на что надеемся? И как, если не через него, приходит к нам это самопознание? Никто не может понять себя без разочарования.