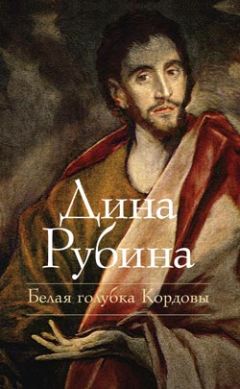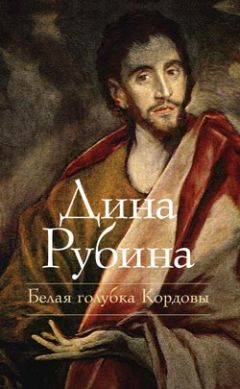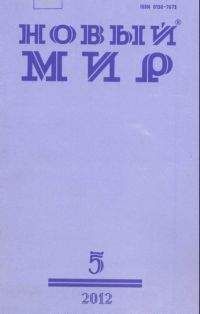Дина Рубина - Белая голубка Кордовы
Кто может проследить загадочные истоки фобий и маний, говаривал эндокринолог Кац, с которым к тому времени дядя Сёма не то чтоб полностью помирился, а стал раскланиваться и даже иногда беседовать за мелиху.[36]
Но стричься Кац к нему больше не ходил, видимо, обида, нанесенная этой шалавой-фехтовалкой не только Лёвику, но и всему их семейству, была не из тех, что забываются.
Как и прежде, по утрам, облачившись в банные халаты, постаревшие, но бодрые Шуламита и Кац шествовали в сторону Буга на утреннее купание. Косая Берта к тому времени года три как прописалась на Пятничанском кладбище; брюхастая Миля была еще жива, но с трудом доволакивала ноги и брюхо до старого венского стула на крыльце. Сидела, опершись дряблыми локтями о деревянные перила, часами наблюдая за тем, как проходит жизнь на улице Полины Осипенко; иногда по привычке, после длинного вздоха заводила своё «тип-тип-ти-и-и-и…» и спохватывалась, понимая, что ее меченые марганцовкой розовые куры давно отправлены в далекое плавание по волнам наваристых бульонов.
«Голубое небо» однажды ночью убили, видимо по ошибке – потому что не за что было и незачем: безобидный старик к тому времени совсем спятил и гулять выходил даже ночью, по-прежнему поднимая взоры к изгвазданному алмазными гвоздочками черному куполу над головой, упоенно повторяя:
– Небо-то какое голубое!
Наткнулись на старика «спарцмены» Кацы, ранние пташки. Тот лежал на спине поперек мостовой, уже остывший, с широко открытыми глазами, до краев наполненными тем самым голубым небом, в котором, надо полагать, его наконец встретила заждавшаяся родня.
Еще кружила по улицам и рынкам Сильва со своим грязным кружевным платочком, с залоснившимся пледом на плечах. Подходила к прилавкам и просто брала, что нравится. А когда торговки, свирепея, обзывали ее воровкой, она каркала свое: «Пар вкрал у Пушкина жыну!» или невозмутимо напевала: «Там, в тени за занавескою, клоун мазки на лицо кладет…», и кружилась, и приседала, и платочком плескала; а ночевала по-прежнему на кладбище, на могиле своего полковника.
Но вот кому подфартило, кто расцвел запоздалым цветом, кто вытащил билет лотерейный, кому улыбнулась судьба… – да называйте, как хотите, это позднее счастье, но то, что Нюся, бабка Нюся заслужила его горбом – против этого кто ж попрет!
Только не Сёма, который так и не решился ради Нюси отослать чокнутую Лиду в ее Саратов, потому что, считал он, неблагодарность к спасителям – самый страшный грех. Вот и сидел он коло юбки своей рехнувшейся китайки, и с затаенной обидой и ревностью наблюдал, как расцветает Нюся, впервые в мужчине встретившая уважение и ласку.
К тому времени в здании управления Юго-Западной железной дороги расселился пединститут, в знакомых коридорах которого Нюся продолжала наяривать шваброй. Работу свою обожала, справедливо считала себя незаменимым сотрудником. Поэтому, когда, учтиво и торжественно ей предложил воссоединиться вдовец Иван Борисыч Петренко, преподаватель марксизма-ленинизма, она с достоинством (хотя и всплакнув горячо и прерывисто над всей своей жизнью) предложение его приняла… И такая это вышла голубиная пара, две такие умиленные друг другом души, что Нюся, как переехала к Ване в его дом в Старом городе, так и пропала там посреди его немаленького фруктового сада, в счастливейшем хозяйствовании, в готовке – жарке – парке, консервировании и сушке грибов.
Иногда они приходили в гости к Литвакам, обязательно с гостинцем – банкой варенья или грибов, и сидели долго, подробно обсуждая друг с другом (никому, кроме них самих, это интересно не было) качество содержимого открытой банки. «Бань, со сливой-то мы перемудрили, – замечала Нюся, осторожно пробуя повидло с ложки, – сахару-то мы перебухали». Ваня решительно у нее эту ложку забирал, пробовал сам, шевеля губами, перетирая что-то во рту седой щеткой верхней губы. И так же решительно заявлял:
– Нюсик! Неправа! Слива иск-лю-чи-тель-ная!
Мама к этим визитам относилась с иронией, за глаза называя пару голубков «Коробочками». Вон, сынок, встречай, идут твои Коробочки, говорила, усмехаясь, а сама обязательно куда-нибудь усвистывала, только ее и видали.
– Ты куда, Ритка?! – возмущенно кричал ей вслед дядя Сёма. – К тебе вон мать в гости пришла! – и рукой махал, почти беззвучно приговаривая: – От ведь… ш-шалава!
Покорно тащился ставить чайник и весь вечер сидел, поддерживая унылыми междометиями оживленный разговор Нюси с Ваней.
Про такие пары обычно в сказках сказывается: жили долго и счастливо и умерли в один день. Жили они, это верно, счастливо, но не очень долго – лет пять; хотя и умерли в один день: в старый «запорожец» дяди Вани, в котором, перегруженные баночками, корзинками и бидонами, они с Люсей тихо и тряско пылили на Азовское море – отдохнуть, врезался шатун-грузовик, угнанный прямо со стройплощадки студентом, веселым идиотом-спорщиком. Так что хлопотливому и родственному Сёме было теперь кого навещать на Пятничанском кладбище…
И вот кто еще дожил до счастливой смерти – капитан Рахмил; воздушный капитан Рахмил – китель на голое тело; его прямо с кроватью забрала Любка-фашистка, которая после смерти отчима стала единоличной домовладелицей. И сразу после похорон сурового старика, что все годы препятствовал ее счастью, она привела грузовик к их калитке, и два дюжих грузчика подняли кровать с лежащим на ней, высушенным, как египетская мумия, капитаном, и понесли под бегущими тенями от листвы старой груши… Он лежал в скользящих солнечных бликах, свежевыбритый капитан Рахмил, и улыбался в самое небо, и рядом с кроватью, держа капитана за руку, вскачь поспешала немолодая, абсолютно счастливая Любка.
* * *А вот старый Глейзер, кряхтя и кашляя, еще носил в своем ящике на плече сквозистое небо.
– Очень любознательный мальчик, – одобрительно говорил он про маленького Захара, а тот, бывало, часами бегал за Глейзером по улицам, заменяя стекольщику давно издохшего черного пса. Помогал, подавал инструмент, подтаскивал ящик… – Любознательный мальчик… И у него такой глаз точный, настоящего стекольщика глаз! И все время он так чудно улыбается – даже не скажешь, что – главный тут разбойник.
Ну, какой там разбойник: дрался маленький Захарка очень редко, по необходимости, которую, правда, сам себе и назначал. А вообще был необычайно дружелюбен.
С этим парадоксом столкнулся физрук новой дальней школы, куда мама решила перевести Захарку после череды нескольких особенно славных его драк. Чем дальше, тем менее убедителен был их с мамой коронный номер: держа сына за руку, мама являлась в кабинет директора на очередную разборку, и с первыми воплями разгневанной мамаши потерпевшего мальчика (всегда более крупного, чем малъчиш-кибалъчиш Захарка), она как котенка вытягивала за руку своего малыша и тихо презрительно спрашивала: