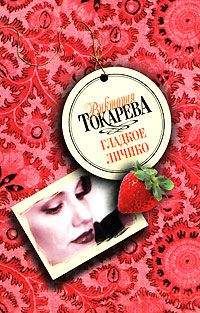Владимир Березин - Свидетель
Трамвай, первый после ночного перерыва трамвай, ехал по улице Марата, но нельзя было понять, 28-й это или 11-й.
Невозможно было определить, куда он едет, может, на остров Декабристов, а может, — это 34-й, торопящийся на Промышленную улицу.
В остальном всё было тихо, лишь одинокий Русский Сцевола стоял и махался топором в пустом музейном зале.
Висели на улицах бело-сине-красные флаги и иллюминированные серпы и молоты — потому что других фигур не было, а окончились ноябрьские праздники.
И вдруг я понял, какой огромный кусок жизни мы отмахали, помня округлые синие троллейбусы с трафаретной надписью «обслуживается без кондуктора» у задних дверей, керосиновую лавку с очередью, запуски космонавтов, дешёвую еду в кажущемся теперь изобилии, перманентные торжественные похороны и окончившиеся нынче военные парады…
Кончалась эпоха, я чувствовал это, хотя честь этого открытия принадлежала не мне. Всё это прошло, и пройдут приметы нынешнего времени — созвездие рюмочных, сегодняшний праздник, языческие огни Ростральных колонн, войны на окраинах умирающей империи и сонное дыхание коммунальной квартиры.
Люди, тяжело спящие вокруг меня, люди, которых я знал, и те, которых не узнаю никогда, живут своей, недоступной мне жизнью, уходят куда-то.
Всё проходит, но миг истории ещё длится неизменяемым, зависает в нерешительности, истории спящих ещё не продолжаются — в то время, когда по улице Марата грохочет утренний трамвай.
История про Бунина
Целый месяц я дышал воздухом стрельбища, сладким запахом ацетатного пороха, запахом безопасной пока смерти.
Возвращаться из командировки пришлось вдвоём. Вместе со мной в вагон сел толстый военпред, сразу зашелестевший фольгой от курицы. Звук фольги и запах этой курицы сопровождал меня всю дорогу. Военпред жил на верхней полке, почти не слезая, копошась там, как паук. Близко была Москва, стемнело, а он, открутив на полную мощность свет, стал читать вслух Бунина. Поезд шёл где-то у Подольска, ветер за окном рвал ночь на клочки.
Меня клонило в сон, а военпред бубнил над ухом, сморкался, вскрикивал от восхищения.
— Ну, ты смотри, ты смотри!.. Вот любовь, а?!
Я уже возненавидел его.
— Плачут, мучаются, — бормотал он. — Моя вот, как женился, ни разу не плакала. Ни слезинки не дал пролить, вот! А тут — возлюбленная нами, как никакая возлюблена не будет… Ну, чисто дети… Дела-а.
— Возлюбленная нами, — подумал я. Возлюбленная нами, как…
Тогда мы лежали на узком диване. Это было ворованное у хозяев квартиры время, и лишь к середине ночи мы уверялись в том, что нам никто не помешает. К этому часу мы так уставали, сил не было, но уснуть уже не могли и курили, передавая сигарету друг другу.
В головах я ставил маленький приёмник, взятый без спроса у одного моего друга. Мы отчаивались разобрать русскую речь в грохоте и улюлюкании глушилок, и начинали искать музыку. Через пять минут волна почему-то менялась, и приёмник одиноко звенел на столе.
Обычно я лежал ближе к стене. Однажды она внезапно крепко прижалась ко мне, и я почувствовал, что она плачет. Мне не хотелось её ни о чём спрашивать, ведь есть вещи, о которых нельзя спрашивать. Тогда я стал губами сушить её мокрые веки, чувствуя, как она успокаивается.
Мы были совсем дети, жаловались друг другу, ссорились, как дети, и надували губы, как дети, и сейчас она обнимала меня, как большой ребёнок.
Беззащитный запах волос, подтянутые к животу колени — всё выдавало в ней ребёнка, хотя мы считали друг друга совсем взрослыми.
Той ночью на улице мело, и в комнату проникал белый свет от снега, ставшего стеной за окном. Когда стало светать, она наконец уснула, уткнувшись носом в нашу единственную подушку. Дождавшись этого, я сразу же провалился в забытьё, успев подумать, что мы всё-таки украли эту ночь.
Я успел подумать, что любовь — это воровство, она вне закона, и, не украв, нельзя любить.
А утром нам опять никто не помешал, мы спали долго, а проснувшись, вышли из дома, не позавтракав.
Через два года она уехала, а ещё через год её и случайного попутчика, сидевших в автомашине у бензоколонки близ Нацерета, расстрелял в упор, прямо через ветровое стекло, какой-то палестинец.
Отчего-то я хорошо представляю, как билось в его руках оружие, и осыпался внутрь машины белый, сразу ставший непрозрачным, триплекс.
Хотя нет, у меня ещё есть надежда: будто бы один из знакомых недавно видел её в метро, а другой рассказывал мне, что столкнулся с ней у автобусной остановки.
Я верю, что она вернулась в Москву, и я непременно встречусь с ней, как только мы приедем.
Наверное, она случайно окажется на вокзале, когда я, отпихнув своего толстого попутчика, вылезу из вагона. Пусть он читает Бунина и радуется своей жизни — что нам до него?
Она будет там, думал я.
Куда она могла уехать?!
Конечно, она будет там, возлюбленная мною, как никакая другая возлюблена не будет.
До Коломны и обратно
Настал июль, и все мои друзья разъехались. Один из них уехал в Европу, другой в Америку.
Мои друзья разъехались по всему миру, а я остался в душной Москве, где асфальт не успевает остыть за ночь. Но я любил этот город и сумасшедшее лето в нём, когда одни готовятся к путешествию, а другие только что вернулись из него. Когда музыка несётся из открытых окон на старой ночной улице.
Когда невидны отложенные дела и время течёт, густое и неторопливое, обволакивая, как нагревшаяся вода на мелководье.
Угнетали меня тогда две вещи: неутомимые городские комары и отсутствие моей любимой.
Но вот она приехала и села на краешек моей кровати.
Моя любимая сняла чёрные очки и, заложив ногу за ногу, обернулась ко мне.
— Давай праздновать мой приезд, — сказала она.
И мы пошли по гостям — случайным и необременительным.
Один из моих друзей жил у сортировочного узла, и в середине ночи, уже сметаемой восходящим солнцем, мы пробирались через пути, забитые составами.
Выбрасывая вперёд сноп света, проносился одинокий тепловоз.
Пространство станции было покрыто вспыхивающими огнями семафоров — ярко-синими, красными, жёлтыми, зелёными…
Остатки ночи казались тоже зелёными, подсвеченными железнодорожным светом. Зачарованные этой красотой, мы на миг остановились, слушая пение птиц.
Она приехала, подумал я, она приехала, и теперь всё будет хорошо.
Но сразу же вновь мы зашагали через рельсы на огонёк чужой холостяцкой квартиры.
Там мы пили коньяк из пузатых бутылочек. Еды не было, она была не нужна.
Питались мы в те дни довольно странно, и часто ели в чьей-то кухне макароны под бой курантов, нередко забывали приходить домой, где в тонкой медицинской мензурке, сменяя друг друга, без нас вяли розы.
Каждый день мы смотрели на мир, будто глядели в детский калейдоскоп, где стекляшки звякают, складываясь каждый раз в новый узор — треугольники, квадраты, круги.
Однажды я, проснувшись, с недоумением рассматривал незнакомые крыши в окне.
Однажды, слушая дыхание моей любимой, я долго лежал, вспоминая.
Однажды длилось, превращаясь в когда-то. Оставив незнакомый пейзаж в окне и слушая чужое-её-своё дыхание, я вспомнил, что несколько лет назад собирался съездить в город Мышкин.
Не знаю, отчего мне так хотелось в него попасть — не знал я, где он и находится.
Наверное, мне просто понравилось его название.
Мышкин. Мыш-кин.
А может, его название надо произносить быстро: Мышкин.
Когда моя любимая проснулась, я рассказал ей эту историю. Рассказал, прибавив какую-то другую историю с запахом железнодорожного угля и горьким запахом степной дороги.
Моя любимая задумалась, рассматривая потолок.
— Поехали, — сказала она наконец.
— Куда? — не понял я.
— В Коломну.
— А почему в Коломну? — недоумённо спросил я.
— Я там не была, — ответила моя любовь.
Мы пересели из метро в электричку и прилипли к окну, разглядывая пригороды, а минуя город химиков Воскресенск, на мгновение вдохнули удушливый дым и успели увидеть поле, покрытое огромными загадочными шарами.
В дороге я читал путеводитель семидесятых годов, большая часть которого отводилась описанию коломенских больниц и техникумов. В частности, там было написано: «На четвёртом этаже гостиницы помещаются трёхкомнатные номера „люкс“. В холлах установлены пианино и телевизоры, один — с цветным экраном. Это одна из лучших гостиниц в Московской области».
Ровно через два часа поезд, проехав с консервным грохотом по жестяному мосту, ввёз нас в Коломну.
В то время у меня отрастали волосы.
Короткие, они топорщились на голове, как ворс недорогого ковра.
Я подставлял макушку под водоразборные колонки, а когда разгибался, любимая ерошила мне этот подшёрсток. Из-под её ладошек вылетали и оставались висеть в воздухе брызги.