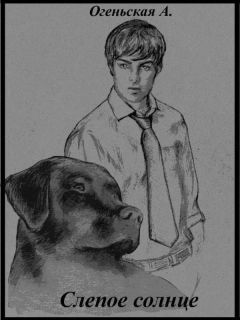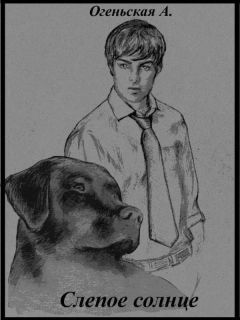Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 4, 2002
Обычный для Быкова, но на сей раз подлинно трагедийный финал — в рассказе «Пасхальное яичко». Действие его развертывается в послевоенной деревне. Свободное перемещение во времени — одно из преимуществ, которое дает писателю возраст. Председатель колхоза по кличке Выползок проводит в жизнь решение райкома не допустить празднования Пасхи. Сменив акценты, рассказ можно было бы напечатать и при советской власти. Тогда его героем был бы председатель, который «всегда сознавал себя ответственным за порученное дело». В нем жил непобедимый дух «настоящего большевика». В партизанах он заправлял делами посерьезнее. Но здесь, среди обездоленных и обезмужиченных войной баб, тоже не просто. Распустились люди за войну, привыкли о себе думать, а тут — страну надо кормить. Наблюдая, как Выползок с наганом выгоняет на работу баб, уже настроенных на праздник, понимаешь полную обреченность административно-командных методов на среднерусской равнине.
Героиня рассказа, напечатанного сегодня, — Ганка, партизанская вдова с двумя детьми, а нынче — как бы жена грозного и неказистого председателя. Если Выползок — символ духа, попирающего материю, то Ганка и есть та самая материя, которая в итоге приканчивает этот большевистский дух. Но и сама гибнет. Потеряв интерес к жизни, уходит на этапе из колонны на выстрел конвоира — к последней и единственной свободе. Светлое воскресение Христово заканчивается убийством. Ганка закалывает муженька вилами для навоза. Быков искусно организует и прослеживает нарастание трагедийного вала. Казалось бы, внешне спокойная и уравновешенная Ганка стерпит все ради детей, рожденных ею от любимого человека. Но красное яичко, выхваченное из детской руки и разлетевшееся при ударе о стенку, вызывает неожиданный взрыв ненависти. Хотя поначалу ничто не предвещает такого конца, он представляется вовсе не надуманным. (Кстати, и в этом рассказе обнаружилось непереведенное белорусское слово — «клямка». То бишь щеколда или скоба. Может, для колорита?)
Такой же эмоциональный взрыв дал начало повести «Волчья яма». В сущности, это название подошло бы к любому из последних рассказов Быкова. В каждом из них судьба готовит герою ловушку, из которой уже не выбраться: «Человек может тревожиться или может пребывать в покое или благодати, а беда караулит его всегда». В повести беда находит свою жертву в казарме — солдата из неблагополучной семьи. Герой явно не готов ни к армии, ни к жизни. Отсутствие материнской любви — у него только ненавистная мачеха — и делает его незащищенным, не способным на твердое и разумное противостояние миру. В казарме не спрячешься, все слабости на виду. Робковатая попытка наладить отношения с сержантом воспринята как трусость. Это обрекает его на новое унижение — правда, уже последнее. И вот солдат — он опять-таки без имени — вгоняет финку по самую рукоять в левый бок спящего обидчика и уходит в лес. После долгих скитаний, мучась от голода и одиночества, он оказывается в радиоактивной зоне. Неожиданная встреча с бомжем, живущим в норе на берегу речки, — бывшим офицером, хвастающим, что его радиация не берет. Но она делает свое дело незаметно и добирается до обоих. Повесть похожа на катамаран — держится на двух рассказах о бывших военных.
Ситуация повести перекликается с «Пасхальным яичком». И там и тут — спонтанное убийство. Ганка мстит сразу за все: за войну, за потерю любимого, за связь с постылым чурбаном Выползком, за отчуждение от людей, на которое она осуждена из-за него. Солдат мстит за себя. И там и тут подчеркивается тупиковость бунта. Но тем не менее обреченные герои защищают в конце концов и достоинство других — человеческое достоинство как таковое.
Только трагическое событие, экстремальная ситуация — пограничная — способна открыть человеку его суть. Стремление постоянно проверять своих героев такими ситуациями, повторю, идет от военного опыта писателя. Именно на войне эгоизм (личный, социальный, национальный, расовый) разом теряет все интеллектуальные и эстетические маски. Способен ли ты пожертвовать «памятью о себе» (Лев Толстой) или нет? Это единственный вопрос, который задает своим героям Быков. В благополучные времена, не требующие полной гибели всерьез, это самое важное не на виду. В бурные и смутные — снова выступает вперед. (С той поправкой, что фраза «Я пошел бы с ним в разведку» звучит нынче как «Я занялся бы с ним бизнесом».) Поэтому проза Быкова, напоминая о главном в структуре личности, актуальна и сегодня.
Погружаясь в прозу Быкова, всегда испытываешь противоречивое чувство. Рождается оно от несоответствия богатства содержания и бедности стиля, серовато-плотного, обходящегося без метафор и сравнений, стиля, который, конечно, можно назвать и по-другому: аскетическим. Ничего самоценно-самодовлеющего, отвлекающего от главной цели — той высоты смысла, которая должна быть взята. Этот аскетизм стиля, полагаю, рожден не столько войной, сколько белорусской ментальностью. Скажем, белорусская хата внешне скромнее избы (там одни наличники чего стоят), хотя не уступает ей по удобству. Та же тенденция и в современном строительстве — у «новых» белорусов и русских. Основательная, неяркая добротность у одних и безудержный выпендреж у других. И о том же свидетельствует устойчивый круг тем и вариаций писателя. Василь Быков не посягает на чужое, не рвется за горизонт, а наводит порядок в том пространстве, которое очерчено его опытом и пониманием. Вероятно, поэтому для массового сознания он кажется мрачновато-серьезным, с постоянным плохим концом вместо желаемого хеппи-энда. Уж лучше откровенная литература ужасов — от нее не так тоскливо: заранее известно, что все придумано. Сегодняшний читатель не хочет слышать ни о каких волчьих ямах — все ямы в прошлом. А писатель упрямо повторяет: наша яма, вплоть до самой последней, всегда с нами. С этим трудно спорить: пессимистические прогнозы самые точные. Но трудный для переваривания онтологический пирог, который предлагает писатель, — все же с публицистико-беллетристической капустой (не самое сильное у Быкова).
Сегодня писатель, чтобы быть запеленгованным критикой, вынужден топтаться, прыгать на клавише своей темы, методично посылая в мир один и тот же сигнал. Или иначе говоря: получается нечто вроде окопа, который постоянно углубляется и из которого уже не выбраться. Правда, вести огонь на поражение излюбленных целей все сподручней. Таким стрелком, расположившимся в своем именном окопе, и представляется Василь Быков.
Валерий ЛИПНЕВИЧ.Торжество тождеств
Денис Датешидзе. В поисках настоящего. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда“», 1998, 56 стр
Денис Датешидзе. Мерцание. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда“», 1999, 60 стр
Денис Датешидзе. На свете. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда“», 2001, 65 стр
Когда складываешь их вместе, не можешь отделаться от впечатления, что три книги молодого петербургского поэта Дениса Датешидзе своими обложками напоминают государственный флаг России: синяя, красно-розовая, белая. Этим, впрочем, и ограничивается их связь с гражданственно-патриотической тематикой. Сперва даже может показаться, что поэт занят только собой: то он озабочен семейными неурядицами, то вспоминает свои солдатские мытарства, то опасается нежелательных последствий случайной постельной истории, то перебирает в памяти подробности литературной вечеринки, то анализирует свои впечатления после прыжка с вышки… Озабочен, вспоминает, опасается, перебирает, анализирует — одним словом, постоянно рефлектирует. Странно рефлектирует, как будто стремится заполнить некие жизненные пустоты: «Видишь, есть что-то такое все время, / Что не дает умереть».
Герой этих стихов словно не способен с ходу поверить в реальность окружающего его мира. Он подвержен какой-то редкой разновидности веры — этакому недоверию Фомы (не скажу — безверью), веры, не находящей себе подтверждения, омраченной сомнениями и подробным анализом1:
Меня томит желанье оглянуться —
«Похоже, что-то позабыл, не смог —
(Написано: на небо не возьмут за…)
Закончить…» Только это лишь предлог.
Уже привычно выхожу сначала
И возвращаюсь, проверяю свет.
Но хочется проверить, как там стало,
Где — только что, — исследовать свой след.
(Из книги «В поисках настоящего»)
Человек, лишенный твердой веры в собственное существование, приободряется лишь в те минуты, когда застает себя как бы уже существующим, то есть — действующим, говорящим, смеющимся — сотворенным. Сознание не содержит воспоминаний о том, когда ты впервые осознал себя, «создал» — поместив в ряд условий и обстоятельств. И человек может лишь догадываться о своей… соотнесенности с чем-то, неполной предоставленности самому себе. Вот и в стихотворении «Меня интересует, почему…», наполненном изумлением перед непроясненностью смысла бытия каждой вещи, поэт неуверенно скажет: «А если есть, то, значит, что-то значит!»