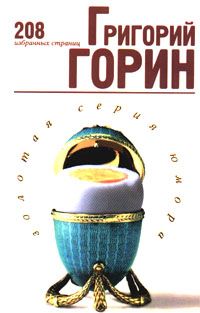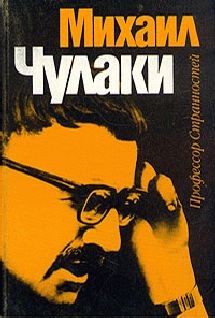Михаил Чулаки - У Пяти углов
Проходя мимо фотосалона, который недавно появился в соседнем доме, Николай Акимыч вдруг с ревностью подумал, что новый фотограф наверняка хвастается перед друзьями, что салон его в том же самом доме, где когда-то жил Рубинштейн. Композитор. Тот самый, что написал «Демона». С ревностью, потому что это неправда. Мемориальная доска на самом деле висит на этом доме, но висит неправильно, это ему когда-то объяснил покойный Леонид Полуэктович. Когда-то нынешний их дом имел номер 38, но потом нумерация сдвинулась на один дом, и доску про Рубинштейна по ошибке повесили на современный дом 38. Леонид Полуэктович показывал старую гомеопатическую книгу, принадлежавшую его отцу, на которой стоял штамп: «Д-р П. Э. Розенблат, Троицкая, 38». Николай Акимыч сразу вообразил, как будет приятно жить в доме с доской, уговаривал Леонида Полуэктовича пойти со своей доказательной книгой в архитектурное управление или куда полагается, но старик отказался: он боялся, что могут устроить музей-квартиру Рубинштейна вроде той, что сделали тут же недалеко на Загородном в честь Римского-Корсакова, а для музея начнут делать капитальный ремонт, Леонида Полуэктовича выселят из квартиры, в которой он живет с рождения, и он не переживет такой перемены. Николаю Акимычу было дасадно, но переупрямить старика невозможно. Но что, если теперь исправить адрес Рубинштейна и перенести доску? Вот и еще одна идея Но сначала бы устроить троллейбусные экскурсии — ведь эта идея полностью принадлежит Николаю Акимычу, а про Рубинштейна подсказал когда-то старый гомеопат.
С идеей об экскурсиях надо идти на Зодчего Росси, в управление. И не потому даже, что директор парка теперь стал бы возражать просто назло Николаю Акимычу. Нет, он слишком мелкая сошка, директор парка, чтобы решать такой вопрос. Да и приятно лишний раз пойти в управление, убедиться, что Николая Акимыча там ценят и уважают. Приятно просто пройтись по Зодчего Росси — где еще такой ансамбль, в каком городе? Многие, кто ходит часто или каждый день мимо всемирных шедевров, перестают их замечать, им что Зодчего Росси, что какая-нибудь безликая улица Шкапина, а Николай Акимыч всегда помнит и чувствует, по каким плитам ступает его нога. Сейчас везде асфальт, но если выражаться поэтически — плиты! А Макар Хромаев, хоть и нацелился стать знаменитым поэтом, чувствует ли, что ступает по плитам?! Не чувствует, а то бы написал об этом. Или Ксана. Сама рассказывала со смехом, как в детстве узнала, что есть такое училище — хореографическое, услышала от кого-то, но не расслышала, что оно на улице Зодчего Росси, не знала она тогда, что такое «зодчий», кто такой «Росси», и потому, когда сама отправилась искать по городу училище, то спрашивала у прохожих: «А где улица Заячьей Рощи?» Вроде бы смешно, но есть вещи, над которыми не надо смеяться. И стыдно даже и в четвертом классе, даже и в детдоме не знать про зодчего Росси — ведь в Ленинграде детдом, а не где-то в тьмутаракани. Но если уж когда-то не знала, когда-то перековеркала Зодчего Росси в Заячью Рощу — то зачем вспоминать, зачем хвастать этим? Николаю Акимычу не понять. Многое Николаю Акимычу непонятно в Филиппе, а уж в Ксане его новой — вдвойне!..
Внизу на парадной двери Николай Акимыч увидел большой лист. Какое-то объявление. Он подумал было, что про выборы в домовый комитет, но оказалось — про пропавшую собаку. Про Рыжу! Рыжа пропала! Собака как собака, найдется и другая не хуже, а все-таки жалко. И сам Николай Акимыч привык, и Ася ее любила…
Но, прочитав подпись: композитор Варламов, Николай Акимыч перестал думать про Рыжу. От возмущения. Зачем же так сразу: композитор?! А если бы не композитор, если Варламов — водитель троллейбуса, то и не человек?! Ради Варламова, который простой водитель, и не надо постараться, не надо вернуть собаку? Он и не имеет права любить животное, если он простой водитель?!
Николай Акимыч рад, конечно, что сын стал композитором, что и на афишах его иногда печатают; но был бы он роднее, легче было бы им говорить и общаться, если бы не эти афиши, если бы не стеснялся иногда Филипп, что отец его — не скрипач из оркестра, а водитель троллейбуса. Филипп никогда не говорит, но Николай Акимыч догадывается сам. Забывает, а тут как увидел объявление — сразу все вспомнилось и всколыхнулось. Потому легче ему с внуком: пошел Федька на завод и правильно сделал. Зато терапевт настоящий по всякой электронике. И не понимает Филипп, что чем дальше, тем больше всяких инженеров, и композиторов в том числе, которые кажется, что они что-то придумывают и сочиняют, а на самом деле прячутся от настоящей работы, потому что не умеют ничего сделать руками. Своими руками. Все больше таких, и все меньше настоящих мастеров, истинных терапевтов, которые способны сами произвести весь трудовой цикл — от головы до рук!.. Да, с Федькой легче… А Филиппу вовсе нечего задаваться: хоть он и композитор, а что он знает про ту же Троицкую улицу, на которой родился и живет всю жизнь?! И про дом, в котором по-настоящему жил настоящий композитор — Рубинштейн, раз уж улицу переименовали в Рубинштейна! Леонида Полуэктовича Филипп никогда не расспрашивал, потому что неинтересно ему. А уж Ксана — та и вовсе живет в родном городе как в лесу, хоть и балерина, — «улица Заячьей Рощи»!
Присмотревшись, Николай Акимыч заметил, что объявление написано на его бумаге и его красками. Он бы и сам дал и бумагу, и краски — не жалко! Но надо все-таки спросить разрешения. Вот так — а еще культурные считаются. Интеллигенты.
5
Лиза прочитала около булочной объявление о пропавшей собаке, которую разыскивает композитор Варламов. А почерк не Фила. Значит, писала его новая, нынешняя.
К этой собачонке Лиза никогда не испытывала теплых чувств. Потому что маленькая тварь тоже способствовала их разрыву. Нельзя сказать, что Лиза не любила собак тогда или что не любит их сейчас, но ее раздражает, когда все в доме на задних лапках вокруг бессловесной твари. Собака есть собака — всего лишь. А любить надо человека. Прежде всего. Не так уж много в каждой душе запасов любви, и тратить эти запасы надо прежде всего на человека. На близкого человека.
Тогда, семь лет назад, Лиза не очень жалела, что они расходятся. Она устала от непонятных ей переживаний, от сложностей на пустом месте. Как будто кто-то мешал ему сочинять! Не мешки же с/к таскал на своей службе, чтобы выматываться и не мочь потом поработать над сочинениями. Если в душе есть музыка, она выплеснется сама, ее не надо вымучивать, выдавливать из себя! Да, тогда Лиза устала, хотелось встретить человека, занятого настоящим делом. Настоящим мужским делом.
Теперь она — ну не то что жалеет, но смотрит на тогдашние их отношения немного иначе. Кое в чем Фил был, возможно, прав. И доказал постепенно. Делом. И самое дело, оказывается, довольно-таки мужское: почему-то большинство композиторов — мужчины, кроме Пахмутовой и не вспомнить сразу других исключений; казалось бы, более тонкая женская душевная организация должна рождать тонкие мелодии, но даже женственную музыку ноктюрнов и мазурок сочинил Шопен. Про Шопена, естественно, она знала и тогда, не в этом дело. Трудно поверить, что Фил — такой свой и домашний, может по-настоящему сочинять; казалось, композиторы — какие-то другие люди, возвышенные, ну только что не сделанные из особого материала. Нет, он не становился в позу, не разыгрывал гения — но с тихим упорством сочинял и сочинял. А может быть, в этом его ошибка, что не становился? Стал бы в позу гения — и всем вокруг легче было бы его признать, и Лизе тоже… Но вот выясняется постепенно, что кому-то его сочинительство нужно. Теперь он — композитор Варламов, который оповещает жителей своего района, что у него пропала собака, в уверенности, что жители немедленно бросятся на помощь композитору.
Лиза и сама когда-то немного сочиняла — а пародии, например, даже очень неплохие, целых две напечатали в газете, — но закончилось все тем, что вот работает в библиотеке, выдает чужие книги. Выдает со смыслом, знает им настоящую цену; бывает, ни с того ни с сего вдруг сенсация, читатели записываются в очередь — и она выдает, не может не выдавать, раз требуют, но про себя-то знает, что ерунда; зато иногда никто не заметил, никаких слухов — а она оценит сначала сама, потом подсунет нескольким понимающим читателям. Когда она стояла у булочной и читала зов о помощи, вывешенный от имени композитора Варламова, обе руки ей отягощали сумки, в которых не только продукты, но и книги, как всегда, — и свежие журналы, само собой. Надо быть всегда в курсе, и это не только профессиональная необходимость, но и потребность, — жалко вот, что не стало это потребностью и для Феди. Может быть, она виновата, плохо воспитывала сына? Нет у него потребности читать, нет у него потребности учиться. Или все они сейчас растут такими? Не в дипломе счастье, бывает, что и с дипломом человек, а все равно никто и звать никак, но все-таки… Уж Федя с его головой мог бы далеко пойти с дипломом! Правда, еще не поздно поступать, — но привыкнет к деньгам, отвыкнет, наоборот, от усидчивости, да еще женится вдруг на какой-нибудь вертихзостке — трудно будет в институте. Надо было, чтобы повлиял отец, приказал наконец, — хотя разве прикажешь им, нынешним? Тем более, Федя считает, что в разводе виноват Фил, и потому не послушался бы, если б Фил и попытался приказывать, — не послушался бы из одного упрямства. Это слабость со стороны Лизы, но она никогда не пыталась объяснить сыну, кто и насколько виноват — если бывают в разводе виноватые, — удовольствовалась тем, что Федя своим умом оправдал ее и обвинил отца. А Фил? Тот из одной гордости наверняка не оправдывался. Он всегда был застенчивым и гордым — наверное, и остался. Правда, подпись на объявлении не свидетельствует о застенчивости. Но почерк все же не его…