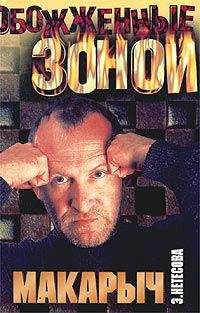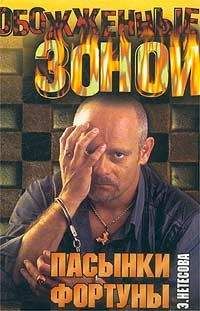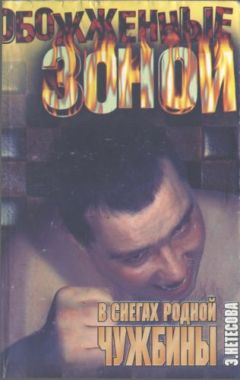Эльмира Нетесова - Забытые смертью
Вспомнились все унижения и оскорбления, которые услышал и стерпел от семьи лесника. Он больше не мог жить, не отомстив.
Прохор терпеливо наблюдал за Василием и Олесей, прощавшимися на лесной дороге, сворачивающей к зимовью. Цыган целовал девушку не безобидными поцелуями в щеки. Он целовал ее в губы. Долго. Так долго, что Прошка чуть не взвыл под кустом.
Василий называл Олесю звездой своей судьбы. Клялся в любви до гроба. Лишь с первыми петухами отпустил ее, а сам, сев на велосипед, отправился в Речное.
Олеся долго смотрела вслед Василию. Едва свернула на тропинку, как из кустов выскочил Прохор, сбил с ног ударом кулака. И, не дав опомниться, заткнул рот задранной юбкой.
— С-сука! Цыганская подстилка! Меня прогнала, высмеяла! Я тебя проучу! На коленях приползешь. Умолять станешь, — скрутил испугавшуюся Олесю. — Ну, вот и все! Теперь беги к цыгану! — натянул портки. И, прикрыв уже бабью голь, бросил через плечо, уходя: — Вечером пусть отец придет. О приданом договоримся.
Едва успел Прошка влезть на чердак — не хотел будить мать, как услышал — в избу колотятся пудовые кулаки.
Мать открыла испуганно. Тимофей влетел зверем.
— Где твой кобель? — грохотал он кулаком по столу.
— Что стряслось? Угомонись.
— Пришибу скотину. Дочку мою ссиловал!
— Он жениться на ней собрался!
— Кому нужна погань? Где он? — прошел лесник в комнату.
Прохор сидел на чердаке ни жив ни мертв от страха. Он был уверен, что Тимофей не захочет огласки и позора для дочери, тихо выдаст ее замуж. Но лесник орал так, что на голос его сбежались соседи. Кто-то, узнав, в чем дело, вызвал милицию. Двое оперативников пришли тут же. И вскоре вытащили Прошку с чердака, едва сумев защитить от расправы Тимофея. Тот грозил найти мужика из-под земли и свернуть ему голову, как цыпленку. Прохора вскоре осудили. Не согласилась Олеся уладить случившееся миром, не пожелала стать женою Прохора. И, когда тому определили наказание в пятнадцать лет лишения свободы, пожелала, уходя:
— Чтоб ты света не увидел и сдох в тюрьме, гнилой козел!
Прошку тут же отправили на Колыму. Едва он попал в зону и зэки узнали, за что осудили его, сбились вокруг шконки, матерясь.
— Пока мы тут сидим, такие, как ты, паскуда, позорят наших баб, сестер и дочерей. Не думай, что здесь тебе сойдет даром! Душу вырвем! — грозили все.
— Вырвать ему яйцы! Пусть поплатится, падла, за свое. И остаток станет жить вприглядку! — предложил сосед по шконке.
— Опетушите его и киньте к обиженникам! Пусть на своей жопе познает, что утворил! — подсказал бугор барака.
— Чего гоношитесь, фраера? Кого припутали? Свежака? Насильник он? Дайте его нам вместо магарыча. Месяц трясти вас не будем, — предложил фартовый, войдя в барак.
— А вам он зачем?
— В рамса на него срежемся. Ставкой в игре станет. Своих жаль. От скуки, может, еще чего-нибудь придумаем.
— Давай выкуп! — потребовал бугор барака работяг.
— За этого? Ты что? Сказал — месяц трясти не будем.
— Бери!
— Эй ты, пропадлина! Шустри, задрыга, в нашу хазу! — дал пинка Прошке фартовый.
В барак к ворам Прохор влетел, кувыркаясь через голову. Он ничего не видел. И никак не мог остановиться.
Он летел по проходу между шконок. С визгом, стоном, матом, как комок зла. Вот ткнулся в чьи-то ноги. Сшиб. Его поддели в бок сильнее прежнего, загнали в угол, к параше. Там столпившиеся мужики схватили за шиворот, сдернули с пола, поставили на ноги:
— Ты, потрох, откуда свалился?
Когда узнали, повеселели:
— Как накажем козла?
А через десяток минут известный на всю зону художник по кредиткам, отбывавший третий срок за фальшивомонетничество, со смехом рисовал на груди Прохора, привязанного к шконке, увеличенный во много раз половой бабий низ.
Так решили фартовые.
— Ты хоть помнишь, как она выглядит? — спросил бугор фальшивомонетчика. И, глянув на рисунок, нанесенный на грудь, расхохотался: — Посмачнее, пожирней изобрази! Чтоб фонарем горела! Пусть этот пропадлина помнит и в гробу, за что ходку тянул. Чтоб нигде стемнить не мог и отмазаться! Давай! Изобрази! Чтоб черти, приняв его на тот свет, со смеху поусирались!
Глубокой ночью, закончив колоть Прошку, фартовый обоссал ему грудь вместо дезинфекции. И велел линять со шконки.
Прохор было потребовал место для себя, но сердобольный обиженник одернул вовремя и предупредил, что бывает с теми, кто любит возникать.
Прохор с неделю болел. Татуировка вспухла, грозила заражением. Но обиженник и тут помог. Выбрал из печки древесный пепел, засыпал толстым слоем татуировку. Когда боль утихла, смыл все с груди свежей заваркой чая и, глянув сочувственно, сказал:
— Срамотища жуткая! Теперь тебе уж никогда не доведется снять рубаху. Эта транда у тебя даже на кишках пропечаталась! Но не тужи! С этим жить можно! Зато жопу не пробили, не отдали сявкам оттянуть тебя в очередь. Не оторвали яйцы. Такое здесь как два пальца обоссать! Считай, легко отделался. За такое фартовые размазать сумеют. Да что трехать? Сам увидишь.
— Как же мне теперь жить? — сокрушался Прошка.
— Да клево! Не вылупайся, потешь фартовых, повесели бугра. И всегда хамовка будет. Может, кайф обломится! В чести держать станут, коль пофартит.
Прошка слушался обиженника во всем. Тот уже много лет канал в фартовой хазе, знал все законы насквозь, привычки и характер воров. Учил Прошку, как средь них выжить, не потеряв душу.
— Если по кайфу придешься, лафово дышать тебе. А нет — в очко иль рамса продуют. Утопят в параше. Иль в проходе повесят.
— Как? Совсем? Насмерть?
— Иного не бывает, — отмахнулся обиженник.
И вскоре Прошка убедился, как легко и просто теряют жизни в зоне мужики. Редко кому довелось тут умереть своею смертью. Держали эту зону воры, а потому перечить им было безумием. Они умели расправляться по-всякому. Красиво и грязно. Быстро и медленно.
За год в зоне Прошка превратился в старика. Он видел столько изощренных пыток, что никакой Тимофей с его кулаками, кнутом и угрозами не мог уже испугать его.
Первое время после увиденного Прохор кричал во сне. Дрожал неделями. Не мог есть. Ему было страшно. Но постепенно он черствел. Привык.
Бугор фартовых сам дал кликуху Прохору. По татуировке так и звал Трандой. Перечить или возмущаться Прошка не насмелился. Был предупрежден. А потому послушно появлялся по первому зову фартовых. Кривлялся, ломая из себя кокотку с панели. Научился смешить воров до слез. И те щедро кормили мужика. Но, едва глотнув водяры или чифира, гонялись за Трандой с ножом, припоминая ему причину ходки.
На четвертом году, когда в зону пришел новый начальник и заставил фартовых работать, бугор первым вытолкал из барака Прошку. Того вмиг загнали на рудник, где он с утра до ночи таскал тачки с углем.
Когда слабел и падал, охрана пинками помогала встать. Попробуй разинь рот, пожалуйся на недомогание — отвезут в отработанный карьер. Туда и мертвых, и ослабших, и больных отвозили. На всех один бульдозер приходил…
Может, и Прошку туда увезли бы. Но выручил случай. Выстроили ослабших для посадки в грузовик, чтобы на карьер отвезти. Велели рубахи и портки снять, чтобы на пополнение не тратиться. И увидел старший конвоя татуировку на Прошкиной груди. От удивления остановился. Всякое видывал, но не такое. Расхохотался. Тут начальник зоны подошел. Очки надел. Глазам не поверил, рукой к татуировке потянулся.
Прошка понимал, для чего их раздевали. Чувствовал, что видит белый свет последние минуты. И решил испробовать то, что даже на фартовых безотказно действовало.
Скорчил рожу, сложил губы в бантик и говорит начальнику:
— Если б ее подкормить да подмыть! Она б не раз настроенье еще сберегла! Ну зачем губить красу такую?
— Тьфу, черт! Ну как живая! Кто же так изобразил? Как ты с нею ладишь? — отдернул начальник руку. Но из строя велел вывести, одеть, вернуть в барак. И кормить по полной норме.
— Ему с таким клеймом и так нелегко приходится. Если до воли доживет, я ему не позавидую. Ни в бане, ни к бабе, ни на курорт не покажись. В гробу и то краснеть будет перед родней. Он этой татуировкой больше, чем сроком, наказан. Перед матерью не сможет рубаху снять. А уж перед детьми и внуками — тем более.
Прошку оставили жить. Начальник зоны, охрана, завидев мужика, усмехались либо сочувствовали молча. Но всегда напоминали: мол, в зоне выживают лишь сильные, те, кто хочет жить. И Прошка старался. Ему очень хотелось выжить и вернуться в свой поселок. Насовсем, навсегда.
Мать ему постоянно писала письма, из которых он знал обо всех новостях в Речном.
Так, еще в самом начале, на первом году, написала Прошке, что Олеся после суда уехала от отца. Но и в поселке не осталась. Не вышла замуж за Василия. И поселковые бабы-пересудницы говорили, что, видно, умоталась она за Прохором, кто ж теперь ее замуж возьмет? Но объявившийся под Рождество в магазине Тимофей осрамил сплетниц и прочел письмо Олеси. И все узнали, что увез он ее в Москву. И дочка поступила в институт лесного хозяйства. Инженером будет. Не то что некоторые босяки, пытавшиеся загубить ее судьбу и силой заставить стать женою…