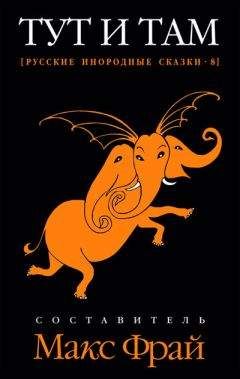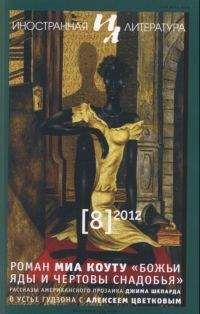Александр Мелихов - Роман с простатитом
Целый журнал многослойных толстух – вроде той, в психушке, – и все равно Он мне ни разу о себе не напомнил. Зато теперь я вспомнил совет из газеты “Час пик”: знаете, что бывает, если не доить корову? – вот и раздаивайтесь, господа.
“Просто баба” – без лица – всегда производила на Него неотразимое впечатление, но теперь Он, казалось, перенял мою брезгливость к неодушевленной плоти. С чувством совершаемой не очень крупной гадости я рискнул предъявить Ему несколько фотографий – “лиц”, с которыми меня когда-то связывали нежные отношения, доведенные или не доведенные до конца… фу, до чего фрейдичен наш язык. И – о чудо! – Он немедленно потянулся тоже выразить им свое расположение. Невозможно было поверить, но теперь именно Он претендовал быть индикатором души: стоило мне убрать нежность – и Он не желал даже взглянуть в сторону самых свежих, не свежих, но лакомых или вычурно сервированных блюд.
Интересно, вывезла бы нежность, если бы я узнал, что она – это он, с обрезками мошонки? Чувствую – вывезла бы. Когда-то давно в детской больнице я, как всегда с сумасшедшинкой, влюбился в безногую женщину. Мы каждый день сидели друг против друга, проверяя уроки у наших киснущих дочурок, и я, таясь, поглощал глазами, как она бережно уравновешивает у стенки костыли, поправляет чистенький кокетливый беретик и поестественнее устанавливает руками свои протезы в отглаженных брючках и лакированных туфельках, и если бы телепатия хоть чего-то стоила, она бы непременно поняла, что никакая маскировка не нужна, что я готов припасть на колени и целовать, целовать, целовать ее нежные глянцевые культи, пока она не поверит, что я люблю их еще мучительнее, чем ее таинственные глаза и божественную линию шеи, склоненной в материнской заботе.
Но прежде нежность Ему мешала, а теперь… Впрочем, без ласки и корова плохо доится. Я взбежал по откосу, не заметив, что он обрывается в пустоту, и взлетел над огромной геометрически расчерченной долиной – но я сумел удержаться от испуга, зная, что в следующий миг уже засну. Блаженное получасовое пробуждение
– если бы не испанец… Мутноватый “Product of France”, душ, неподкупная зарядка, вращения на грани допустимого ножницами, я уже могу шесть-семь раз подтянуться на душевой перекладине – нитки потрескивают, но держатся. Мой фиолетовый рубец по-прежнему ничего не чувствует, но ведь и волосы, ногти… А все равно мои.
Чашка растворимого кофе с сухими сливками (все упаковано мамой) – не столько для удовольствия, сколько для свободы: мол, и я что-то себе позволяю. Ну а для медицинских надобностей я глотаю воду – здесь это не страшно. С удивлением обнаруживаю, что напеваю за работой, – когда это было в последний раз?..
В нерастраченной дымке сладкой очумелости иду бродить по заграничному фильму – современному или историческому, шлифуя завтрашнюю лекцию, но мысли то и дело утекают и плывут по просторам моего скафандра по воле внутреннего Хаоса, на этот раз почему-то обратившегося ко мне своей добродушной личиной.
Усаживаюсь с блокнотом в парке у музейной руины, забредаю в уютный порт – полчища корабельных пик, Уччелло. Шагаю по шахматной набережной, группки молодежи (кто-нибудь обязательно в средневековом) лежат в сторонке вокруг бутылки и никого не трогают. И дочка среди них, свеженькая и довольная. На детей никто не орет: “А ну брысь отсюда! ”, а они тоже путаются под ногами… Что ж с них вырастет?..
Потом долго не могу оторвать глаз от скуластой филиппиночки, пританцовывающей прямо на улице под ихние дудки-тамбурины в цветастой развевающейся компании…
Валуны, дополненные своими отражениями, парят в розовом пламени, словно просыпанная с небес гигантская картошка. Со своим морским инглишем я лишь правдоподобная имитация человека – через этот забитый шпигат никому не заглянуть в меня, здесь сквозь меня ничто никогда не будет просвечивать, здесь я – пятилетний вундеркинд: еще не научился разговаривать, а уже пишет частные производные! Когда я отмачиваю что-нибудь особенно морское, взрослые радостно хлопают в ладоши. Здесь все чудесные люди, добрые и чистые, как их аудитории и компьютерные библиотеки, они словно бы вовсе не замечают моей манеры при неудачном повороте резко выпрямляться и потихоньку щипать себя за бок. Не надо, правда, забывать, что и я заметно продвинул их работу: недорогая приставка к их “Вятке-812” позволит лет десять бесперебойно выпекать кирпичи для нового участка Вавилонской стены, идеально вписывающегося в их ландшафт, – возможны гранты, субсидии… Но, повторяю, они бы и без этого прекрасно ко мне относились. А о том, что я им сейчас не конкурент и в качестве постоянного сотрудника вовсе не нужен, – об этом лучше не помнить. У самого милого человека, если его разрезать, обнаружатся почки, кишечник и собственные интересы, а я нынче мудр: пока могу, избегаю изнанок.
А Хаос действительно на все способен: его прибой может слизнуть твоего ребенка, а может и выбросить выигрышный билет в спортлото. Санта-Клаус – или Пер-Ноэль, кто там у них тут, – моложаво-выбритый, облаченный по случаю летнего сезона в шорты и ти-шёт, предложил мне годовой контракт, чтобы я за это время слепил лабораторию, способную обойтись без меня. Жалованье предлагалось… сильно, конечно, меньше, чем своим, но для такого голодранца, которому тем более не нужна ни квартира, ни машина… У них тоже были свои бюрократические выверты: требовалось вступить в должность через пять минут, иначе все переносилось в неизвестность. К стыду своему, я почувствовал, что у меня старчески подергивается голова: “ни в чем себе не отказывая”, я смогу еще лет десять не задумываться о заработке – если, конечно, Хаосу с чего-то вздумается попридержать статус-кво. А за год еще что-то может подвернуться: за нынешнюю экспедицию я продвинулся в международных связях больше, чем за двадцать лет в питерском захолустье.
Покой, накапливавшийся в моей душе, затопил все окрестности, я шел, поглядывая на архитектурную мебель взглядом благосклонного владельца: придет умягченная Гольфстримом зима, а я буду все так же безмятежно шагать по чистому снежку в легких сухих ботинках
(в девяносто втором всю осень прочавкал с мокрыми ногами…) и твердо знать при этом, что ни завтра, ни послезавтра, ни послепослепослезавтра мне не придется ни ежиться от неловкости перед мамой, ни бодаться, ни рычать, ни втягивать голову в ожидании чужого рыка, и мама наконец перестанет корпеть над какими-то идиотскими балансами и – черт уж с ней – даст подзаработать тибетско-филиппинскому жулью, – и дочка… Тут уж, увы, не в деньгах счастье. Но по крайней мере… Оставить ее одну, взять сюда?.. На заочное… Теперь можно кататься хоть…
Соня! Как будто, скользя по паркету, ударился об стену. Но должна же она понять… есть ведь и профессии такие – полярники, моряки дальнего плавания… Однако, набирая ее номер, я подтянул все резервы сиропа и терпения.
Слышно было лучше, чем из России. Это уже не была печальная музыка – это был говорящий автомат, безнадежно простуженный еще на стадии проектирования. Марчелло арестован. Он косил язву желудка и перед рентгеном проглотил кусочек жеваной фольги. Но ему долго пришлось сидеть в очереди, и он, опасаясь, что прежняя
“язва” уже проскочила, проглотил запасную. В итоге две язвы светились на экране, а третья толчками двигалась по пищеводу. А если учесть, как он всех достал… Но это не телефонный разговор.
– А… а как у тебя с деньгами?.. – я имел в виду взятку.
Деньги она вложила в транспортное предприятие – владелец сидит в тюрьме, все счета арестованы. В одном из гаражей у него нашли труп, вдобавок подозревают, что он гонял грузы в Чечню – дудаевцам, естественно.
– А ты звонила?.. – я не хотел называть имя прокурора, но я выпивал и с начальником милиции, и даже один народный заседатель, возможно, зачел бы мне явку с повинной – кстати, и
Газиев в городе не последний человек, вроде даже чего-то там депутат…
– Ты же меня ни с кем не познакомил. Ведь я не твоя жена. – Это была мертвенная констатация.
– Жди, я приеду.
Наконец-то я сделался настоящим вором: отдал нечто вещественное, принадлежащее не мне одному. И тут я понял, что больше ее не люблю. Я никогда ее не оставлю, сделаю все, что только будет в моих силах, но мысль о ней больше не вызывает у меня радости.
Только долг. Только сострадание – досадливое, сквозь жалость к себе.
Никаких заграниц нет – ничто не может заменить утраченной беззаботности. Из царства света, чистоты и вежливости, поверни задрайку, – и ветер валит с ног во тьме, среди которой осторожно обходят друг друга едва теплящиеся робкие огоньки. Я прокрадывался мимо Кронштадта, мимо Петергофа, озираясь, пробирался Морским каналом, страшась столкнуться с кем-то из знакомых. Но меня видели и тусклые паруса Морского вокзала, и
Большой проспект, и Гаванский ковш, и Балтийское море – море мира.