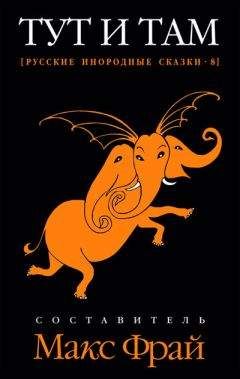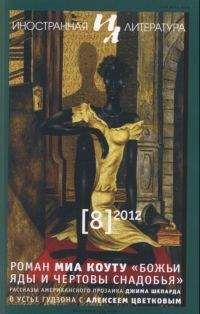Александр Мелихов - Роман с простатитом
Максвеллом, она вдруг фыркнула: я сама знаю, что мне делать, тебе главное, чтобы я тебя не позорила. Эта крошечная часть правды, бессовестно выдаваемая за целое, причинила мне такую боль, что сменившая ее ненависть показалась почти блаженством: покуда жалость и тревога снова не взяли свое, самообслуживание казалось мне вполне стоящим делом, я без всякой скуки сгибал и разгибал ноги в огромных валенках, добытых у одного любителя подледного лова, по силам мне было также поднимать и опускать руки. С неподдельным интересом я разглядывал на свет майонезную баночку (250 г), приставленную к унитазу для контроля за прозрачностью, – увы, муть кружила непроглядной метелью, целыми лохмотьями.
Михайлов велел отпаривать мой деревянный рубец с глазком, превратившимся в ямку с глянцевым донышком, как после чирья, и я часами таскал в ванну кастрюльки с кипятком (горячей воды не было – самое время продавать дешевые трусики), потом осторожно-осторожно забирался, правую ногу перенося через борт руками.
Ноги мои как-то даже окривели от исхудалости. Когда я впервые увидел себя в зеркале, я не сразу поверил, что это я: цыплячья грудка, тоненькие ручки подростка (и подростковый пушок на лобке), а хуже всего (противнее) – все плечи у меня были обсеяны звездной сыпью, уходящей аж за лопатки, и что совсем уж погано – она же проступила на лбу. Лекарств пережрал, что ли?.. И на мне все как будто ссохлось, не напоминало о себе – ну, и я Его оставил в покое.
Рекомендованные Михайловым зелень, печень, фрукты, соки
(прозрачности им всегда недоставало) я поглощал с неловкостью – не заслужил. Теперь и в верблюды не гожусь… Я старался быть полезным, вытирал пыль, лез мыть посуду. Защищенный заботой о себе, я начинал досадовать на Соню за то, что она и для себя чего-то желала.
– Я все время жду, что ты больше не приедешь.
– Ну с чего ты… я в тебе нуждаюсь больше, чем ты во мне.
– Рассказывай… У меня только ты, а у тебя все есть, все тебя уважают… Я только у папы с мамой чувствую себя человеком: они не знают, чем я занимаюсь.
– Ты себя кормишь. И своего охламона. А я нет. Вот что стыдно.
Но к родителям ты все равно скатайся.
– А как Тави провезти?
– Есть же вроде бы специальные багажные вагоны?..
– Только ты можешь такое предложить. А если бы тебя сдали в багаж? У них тоже есть душа, нервная система… Ладно, извини, я опять на тебя накидываюсь. Я ужасно скучаю.
– Мне казалось, что я тебе надоел, ты что-то начала покрикивать…
– Наоборот. С чужими я очень корректна.
– Мне кажется, именно своих надо беречь…
– Ну а с кем же тогда расслабляться?
В канцелярии меня ждали две ценные бумаги: факс от Газиева – срочно обсудить условия договора – и приглашение в один европейский университетик, не ахти какой крутой, но для такого голодранца, как я… Только вот я и до службы-то еле дотянул – всю дорогу простоял на цыпочках, чтоб не так трясло.
Перерезанные мышцы взяли еще новую моду – на малейшее неловкое напряжение отвечать судорогой, – приходилось срочно прогибаться, чтоб их натянуть, и лихорадочно массировать, а это трудно сделать незаметно. Боюсь, я производил странное впечатление.
Бывшие фонари-бабочки по случаю летнего просветления были выключены, но под мостом можно было разглядеть цвета химградского коктейля – струистой земной радуги. Кривые колья торчали, как в Венеции. “Ахеронт!” – вдруг брякнуло у меня в голове. Меня, ко всему прочему, теперь укачивало в автобусах: если ее не будет дома, хоть ложись и отдыхай под дверью, – но уж очень хотелось устроить ей сюрприз. Жаль только, что радовать удается лишь за чужой счет.
У ее дома появилась фанерная стрела “Шинмантаж”. Когда в лифте меня снова обсыпал родной световой горошек, я наконец-то почувствовал подмывающее предвкушение – не мертвенное, за другого, а горячее, шкурное. Я растроганно оглядел знакомую площадку – у соседской двери стояла крышка гроба, красная с черной оборочкой. Стоп – я в увольнении.
Возбужденный лай раздался прежде, чем я коснулся звонка. Тави кидалась на меня как безумная. “Она не сердится, эмоции выходят, она радуется, что ты нашелся!” – счастливо перекрикивала ее
Соня, пытаясь зажать длинную морду. Я попробовал ей помочь, но собаченция строптиво вывернулась. “Ты ей сделал больно, она пискнула”, – и снова безнадежность навалилась на меня: обязательно я причиняю боль… Мы обнялись, Тави так гавкнула, что у меня пресеклось дыхание и протяжно, как попавшая в резонанс струна, заныл шов. “Меня защищает – непорядок!” – торопливо переводила Соня, спеша соорудить себе все тридцать три удовольствия: включила духовку – экстренно сварганить мне что-нибудь пареное, без соли и перца, запустила горячую воду, натрусила туда какого-то заживляющего шарлатанского ароматизатора и, ожидая награды, выставила на стол древнекитайский флакон, который врачевал мозг, сердце, печень, почки, селезенку, желудок, а также укреплял “хи” и “хует”.
Первую ложку я должен был проглотить немедленно.
– Ну ладно, укреплю хует.
– Дурак! – Ее сияние снова начало что-то отогревать и во мне.
В ванной я оглядел в зеркале свой обсиженный мухами лоб и попытался закрыть дверь, но она меня раскусила: “Балда!” Легко упавши на колени, она принялась обцеловывать меня, как младенца, и, отрываясь, сообщать, запрокидывая лицо прекрасной беззубой ведьмы: “Колючий! А почему грудь не побрил?” В зеркале я увидел свою кривую улыбку. “Ты прямо святая – они могли целовать язвы прокаженных”. – “Балда”.
ГАВ!!! – отшатнувшись, я схватился сначала за сердце, а потом за бок – резкое движение отозвалось судорогой. В ванне я немного отмяк, но не до конца: душевные ушибы ныли очень долго. Соня встретила меня скромной гордостью ламы: все было тертое, пареное и совершенно безвкусное. Чай на свет смотрелся мне на зависть.
Высмотреть тараканов так и не удалось. Как я ни бодрился, мрачность понемногу начала и ее увлекать в свою воронку:
– Ну вот, тебе уже скучно со мной…
– Не с тобой, просто снова вспомнил, что всякая радость – только отсрочка.
– Если про это думать, лучше совсем не жить.
– Для этого верховный устроитель придумал страх смерти – чтобы держать нас между двух ужасов.
– Ты просто устал.
– Да это во все времена говорили все, кто только…
– У них не было меня.
– Кто у вас на лестнице умер?
– Как ты узнал? У соседки мать умерла. Давно было пора: девяносто два года, никого не узнавала… Алла совсем замучилась.
– Всегда жалеем жизнеспособного… Вот тебе счастливый вариант: девяносто два года, в своей постели…
– Кто про что, а вшивый про баню. Я знаю, как с тобой надо, словами тебя не переспоришь.
Тави внимательно следила за нами, но не вмешивалась – вероятно, не считая спальные места своей территорией. До какой же все-таки глубины мрачности способна донырнуть и взять за живое мануальная и лабиальная терапия? Когда Он начал оживать, я с горечью подумал, что Он ведет самостоятельную жизнь: у нас с ним у каждого своя голова. Но вдруг я с удивлением не обнаружил в груди привычной ломоты: Он оказался более точным индикатором моей души, чем я. Она так выгибалась, что я едва дотягивался губами лишь до ее подбородка. Я мог только лежать на боку, но это делу не помеха, если наконец-то удалось вызвать животное на помощь человеку.
Назавтра я по еловым веткам осторожненько, словно солистка ансамбля “Березка”, проплыл к Газиеву. После возгласов ужаса и бережных объятий выяснилось, что из каких-то высших соображений договор заключается с Москвой, но для меня, он ручается, будет предусмотрена роль консультанта – раз в квартал просмотреть чужие отчеты.
Перед отъездом она почтительно посоветовалась, стоит ли ей вкладывать деньги в некое страшно выгодное транспортное предприятие – одна из Людмил, жутко практичная, вложила три тысячи и вот уже имеет шесть. “Я бы не стал. Я-то знаю, что я идиот… Что выпустил из рук, то уже не твое. А Хаоса”. – “Но ведь за границей..” – “Я там не жил”.
На работе мама устроилась на вечернюю работу, чтобы подкопить деньжат на тибетский бальзам из корня це-минь-ше-ю для нашей дочери. А мне предстояло сидеть с шапкой в подземном переходе. Я понимал, что это у меня болезненное – выделить лишь одну из обступивших нас бездн, вместо того чтобы мудро ужасаться им всем сразу, но тем не менее валютное приглашение с каждым днем казалось мне все более и более издевательской выходкой Хаоса.
Как с Каштанкой. И мама с неожиданной (а если вдуматься, не такой уж неожиданной) решительностью приказала мне ехать – она понимала, что самая страшная опасность таится в моей собственной душе. Она даже приободрилась, укомплектовывая мою медицинскую коробку пилюлями, звучащими похоже на “пять ног”. Но неосторожным взглядом я замечаю, что у нее капают слезы. Я метнулся прочь – не колыхать! – но она уже увидела, что я заметил. “Горести делишь со мной, а радости с кем-то еще…” А