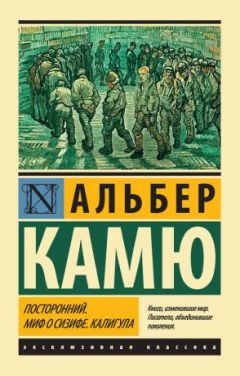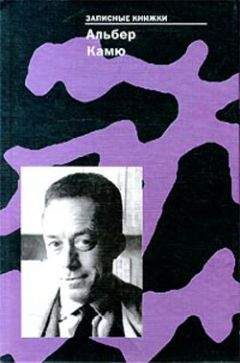Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Утром девятого мая сорок пятого года заключённых, как обычно, погнали на работу. В полдень, по заведённому порядку, привезли обед на низенькой мохнатой лошадке, прозванной в лагере Пищеблоком. Побросав инструменты, женщины потянулись к Пищеблоку, гремя самодельными котелками. После обеда полагалось четверть часа отдыха. Кто улёгся на срубленных ветках, кто примостился на пнях. Конвойные сидели в сторонке, посматривая на часы, чтобы, боже упаси, женщинам не перепала лишняя минута отдыха. Ося сидела на толстом корявом корне, закрыв глаза, подставив солнцу лицо и слушая лесной шум, глухой, протяжный и невнятный, как песня на незнакомом языке. Издалека послышался цокот копыт. Насторожившийся старший по конвою приказал построиться. Женщины, которым оставалось ещё целых три минуты отдыха, медленно, неохотно потянулись к центру делянки. Всадник показался на просеке, Ося узнала в нём одного из сержантов охраны. Не доехав до делянки, он соскочил с седла и закричал: «Война закончилась! Победа, мужики! Победа! Собирайтесь скорее в лагпункт!»
Колонна тут же развалилась, женщины окружили сержанта, засыпали его градом вопросов. Он улыбался, крутил головой и повторял, не слушая и не слыша: «Войне конец! Победа, победа!» Кто-то закричал: «Ура!» – большинство недоверчиво молчало, сержант выхватил автомат и с криком «Победа!» пустил в небо длинную очередь. Выстрелы словно прорвали плотину. Женщины прыгали, плясали, обнимались, пели, плакали, поздравляя друг друга с Победой, не слушая охрипших конвойных. Наконец, построились в колонну, за полчаса вместо обычного часа с лишним добрались до лагпункта, конвоиры едва поспевали за ними.
Лагпункт гудел, как растревоженный улей, всё начальство, все придурки, вся охрана, кроме стоявших на вышках, были на ногах, даже больные из больнички, те, кто ещё мог ходить, выползли на крыльцо. Только через час конвойным удалось всех построить. Вышел начлаг в парадном мундире, сказал короткую речь, поздравил всех с Победой, пообещал двойную порцию на ужин и танцы. Заработало молчавшее четыре года радио. Возбуждённые люди продолжали метаться по зоне, задавать друг другу вопросы, ответа на которые никто не знал. К вечеру в бараке началось массовое прихорашивание: подводили углём брови, красили ресницы смесью сажи с мылом, делали друг другу причёски, доставали запрятанные платья и кофточки. В семь часов с улицы послышалась гармошка, и взбудораженные женщины толпой высыпали из барака. Охрана их не трогала, молодые парни-охранники с завистью смотрели на кружащихся в вальсе зека. Угомонились все далеко за полночь.
Назавтра, по дороге на работу, начались гадания и подсчёты. Восьмилетники, сидевшие с тридцать седьмого, пятилетники, что пересиживали «до окончания войны», указники и просто оптимисты были уверены, что их непременно отпустят. Женщины с большими сроками ждали амнистии, надеялись, что по случаю Победы власти проявят благородство.
Правы оказались только указники. Они вышли почти все. Отпустили уголовников с малыми сроками, повезло и нескольким пересидевшим, но большую часть политических амнистия не затронула. Не коснулась она ни Наташи, ни Лены, ни Даши, ни Катерины. Ося ни на какую амнистию не рассчитывала, а потому пережила разочарование намного легче подруг.
– Всё, – сказала ей Катерина в конце августа, когда окончательно стало ясно, что надеяться больше не на что. – Бежать надо.
– Куда?
– То-то и оно, что куда. Было бы куда, давно бы сбежала.
– Ну что ты говоришь, – рассердилась Ося. – Предположим, ты сбежишь, и тебя не поймают. Ни документов, ни денег, ни родственников, друзья все в лагере остались – как ты собираешься жить?
– Заберусь в тайгу куда поглубже, в самую глухомань. Народ сказывал, после летошней голодухи полно пустых изб по деревням.
– Даже в самой глухомани есть сельсовет и милиция. Продадут тебя за мешок муки, и трёх дней не продержишься.
– Было бы на свете место такое, где ихней власти нету, я бы дотуда дошла, хоть полжизни идти, – мечтательно сказала Катерина. – Много мне не надо, только чтобы крыша над головой и тепло в доме. А уж прокормиться я прокормлюсь.
Ося вдруг вспомнила Шафир с её монте-кристовской историей, сказала, улыбаясь:
– Не ты одна об этом мечтаешь. Сидела я на Шпалерной с очень интересной женщиной…
Она поймала Катеринин жадный взгляд и осеклась на полуслове, но Катерина была не из тех, кому можно было не говорить «б», сказавши «а». Через час уговоров, угроз и обид Катерина вытащила из неё всю историю в мельчайших подробностях и заставила повторить трижды. Глаза у неё блестели, она поминутно облизывала пересохшие губы, потирала руки, а выслушав рассказ в третий раз, исчезла из барака. Ося догадалась, что она побежала пересказывать Андрею. С неприятным пророческим ощущением, что ей придётся дорого заплатить за свою болтливость, Ося залезла на нары, достала свой альбом, посмотрела на портрет Шафир, подумала, как это странно, восемь лет тосковать по человеку, с которым был знаком три месяца, и легла спать.
Девятая интерлюдия
Утром, сняв с головы кожаный поясок, делавший меня похожим на средневекового мастерового, и убедившись, что ранка на лбу подсохла, я умылся и отправился на поиски Корнеева. Катька попалась мне навстречу за первым же поворотом.
– А я как раз к тебе, – выпалила она. – Скажи, у тебя есть девушка?
Вопрос застал меня врасплох, я замялся, но молчать под её пристальным взглядом было неловко, и я пробормотал:
– Была. Мы расстались.
– Ты её бросил?
– Мы бросили друг друга.
– Почему?
– Амур выдернул свои стрелы, – усмехнулся я, но Катька шутку не оценила или просто не поняла. Некоторое время она молчала, обдумывая, потом сказала грустно:
– Толкусь вокруг тебя, словно с фонарём в потёмках, то тут кусочек высвечу, то там, а картинка всё равно не складывается.
– Поехали со мной, – предложил я и сам удивился своим словам.
– Куда?
– В Ленинград, учиться, – сказал я, стараясь говорить как можно уверенней, хотя уверенности никакой не ощущал. – Сдашь экстерном на аттестат, в институт поступишь.
– Ты шутишь?
– Не совсем. Что тебя здесь ждёт?
Она не ответила, развернулась и медленно двинулась по коридору. Я пошёл следом, сам не зная зачем. Просто шёл и разглядывал сложную конструкцию, которую она соорудила на голове вместо вчерашних косичек. Так дошли мы до кухни, на которой уже возились Анна, Еля и совсем старая женщина, имени которой я не помнил.
Анна повернулась от печи, посмотрела внимательно на Катьку, на меня, велела:
– Иди-ка, Катерина, делом займись. Белья грязного полное корыто.
Катька ушла, я сел за стол. Анна налила мне чаю, принесла на деревянной тарелке ломтик хлеба и кусок солонины, спросила:
– Надолго ты в наши края?
– Самолёт у меня через две недели, до деревни неделя ходу, от деревни ещё полдня на автобусе и день на поезде. Значит, самое большее дней пять, – сосчитал я.
– Обратно тоже с Володей пойдёшь?
– Конечно, без него я дороги не найду.
Она улыбнулась, провела тряпкой по столу и отвернулась к печке.
Я допил свой чай и отправился искать Ваську в надежде, что он согласится прогуляться со мной наверх. Подземная жизнь начинала утомлять меня, раздражал вечный полумрак и влажность, не хватало неба, не хватало новых лиц. Раньше я никогда не задумывался, как это важно для человека – видеть небо, даже такое серое, сумрачное, неприветливое небо, как ленинградское, и видеть людей, пусть мимоходом, пусть незнакомых и даже неприятных, но разных и много.
Ваську я не нашёл, выбраться наружу самостоятельно не смог и занял стратегический пост в круглой комнате с люком, выжидая, пока найдётся кто-нибудь, готовый составить мне компанию. Пока сидел, я размышлял, напроситься мне самому на ещё одну беседу с Катериной Ивановной или ждать, пока она меня пригласит, но так ничего и не решил. Через полчаса объявилась Катька, запыхавшаяся, с мокрыми руками. Красивая причёска её развалилась, и пшенично-русые, непривычного карего оттенка волосы рассыпались небрежной копной по плечам.