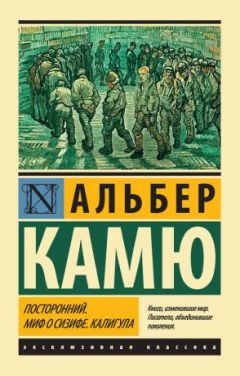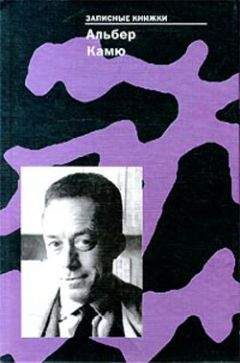Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Вы ведь из Ленинграда?
– Да.
– Я тоже, – грустно сказал он.
– У вас там семья осталась? – спросила Ося.
– Вы, должно быть, радуетесь? – поинтересовался он вместо ответа. – Вам, наверное, приятно, что ненавистная вам власть терпит такое поражение?
– Нет, – сказала Ося, – мне не приятно. Я не умею радоваться, когда гибнут люди.
– Странный вы человек, Ярмошевская, – заметил он. – Я давно к вам присматриваюсь.
– Доносы на меня читаете.
– Не без этого.
– Хотите убедить меня, что писать доносы на других лучше, чем позволять другим писать доносы на себя?
– А если бы захотел?
– Не стоит. Всё равно не получится.
– Не боитесь так со мной разговаривать?
– А что вы ещё можете со мной сделать? Вернуть на лесоповал? Было. Посадить в карцер? Было. Лишить пайка? Тоже было. Расстрелять? Так у меня не та жизнь, которой стоит дорожить.
– Что же, вы совершенно ничего не боитесь?
– Я боюсь только одного – потерять право называться порядочным человеком, – сказала Ося, глядя ему прямо в глаза.
Он крякнул, покачал головой и ушёл.
Плакаты Ося рисовала две недели, а в декабре, в самые морозы, её вернули на лесоповал, и начался очередной круг жизни, такой же изнурительный и пустой. За вторую военную зиму вокруг лагпункта образовалось четыре новых кладбища. Люди умирали десятками от авитаминоза, голода, обморожения. Не стало лучше и к лету, хотя лагерные врачи старались как могли: варили суп из крапивы и сосновых иголок, отправляли людей собирать грибы и ягоды. Чем меньше оставалось заключённых, тем больше повышали нормы – фронту нужна была древесина. Чтобы выжить, все, начиная от начлага и кончая последним зека, занимались приписками – туфтой, как это называлось в лагере.
В феврале далёкое начальство, недовольное падением производства из-за высокой смертности, разрешило не списывать умерших с довольствия. Лагерь продолжал получать питание по нормам прошлого года. Паёк мёртвых помогал выжить живым.
– Если мы переживём этот год, мы бессмертны, – как-то сказала Лена.
– Типун тебе на язык, – рассердилась Катерина. – Живёшь, и живи, к чему языком трепать.
Но даже с приписками и увеличенными пайками ни Ося, ни Лена, ни Наташа не пережили бы эту зиму, если бы не Дашины посылки и не появившийся у Катерины приятель. Андрей работал в инструменталке, затачивал и разводил топоры и пилы. Делал он это исключительно хорошо, цену себе знал, с ним дружили все бригадиры, и он очень умело этой дружбой пользовался. Он умудрился раздобыть где-то с четверть мешка картошки, и целый месяц Ося со товарищи жевали по утрам сырые клубни, спасаясь от пеллагры. В другой раз он притащил полный туесок мороженой клюквы.
– Где он всё это берет, Катя? – поинтересовалась Даша.
– Я не спрашиваю, – отмахнулась Катерина. – Не моя забота. У вохры таскает, поди.
Ося поморщилась. Андрей ей не нравился. С заключёнными он общался свысока, зачастую грубо, зато с другими придурками и с начальством был вежлив и услужлив до приторности. «Жить умеет», – отрезала Катерина в ответ на это Осино наблюдение, и Ося замолчала, очередной раз удивившись про себя, что за странная эта штука, любовь.
Иногда их подкармливал Наташин Володя. Несмотря на то что срок и у него, и у Наташи кончился, их не отпустили. Его оставили на поселении, её – в лагере, обоим сказали, что до конца войны. Раз в пару месяцев он приезжал навестить Наташу, привозил то несколько луковиц, то пяток яиц, то пачку сухарей и немного топлёного масла в чистой тряпочке. «От себя отрывает», – говорила Наташа, и непонятно было, чего больше в её голосе, жалости или гордости. С последнего свидания Наташа вернулась заплаканная, не отвечая на вопросы, легла лицом в подушку и проплакала всю ночь. Утром рассказала Осе, что Володю мобилизовали и что он сам об этом настойчиво просил.
– Как он мог! – возмущалась Наташа. – Как я выживу без него? Пять заявлений настрочил, а мне не сказал ни слова.
Ося Володю не осуждала, она была уверена, что Яник уже давно на фронте и, если у него был выбор, на самом опасном фронте.
Осенью сорок третьего Даша прибежала в барак, затормошила Наташу, только что разувшуюся и пристроившую возле печки насквозь промокшие валенки.
– Пошли скорей, тебе посылка пришла.
– Ошибка, – уверенно сказала шесть лет не получавшая посылок Наташа.
– Никакой ошибки, я сама твою фамилию видела, идём скорее, закроют.
– Господи, неужели это сестра, – сказала Наташа, торопливо натягивая валенки. – Неужели она повзрослела и всё поняла.
Через час – на почте всегда были очереди – она вернулась с небольшим ящичком под мышкой, села на нары, стянула рукавицы и вскрыла его. Достав коричневый самодельный конверт, она вытащила из него два листа, глянула в первый и мешком повалилась на нары, глухо стукнувшись головой об опорный столб. Пока Катерина брызгала ей в лицо водой, а Даша развязывала платок и расстёгивала телогрейку, Ося подняла с пола упавшие листы. «Дорогая сестрёнка, – было написано чётким крупным почерком врача на листе из школьной тетради. – Ты знаешь, что моя любимая женщина, Наталья Александровна Стасова, находится сейчас там, где и я был не так давно. Если со мной что-то случится, прошу тебя, заклинаю, не оставляй её. Я виноват перед ней, но я не мог поступить иначе, я перестал бы себя уважать. Помоги ей, чем сможешь. Впрочем, надеюсь, что необходимости такой не будет. Мне кажется, что войне уже виден конец, хоть и нескорый. Я верю, что после войны мы заживём все вместе весело и дружно, я уверен, она тебе понравится. Твой любящий брат Володя». Пять строчек на обороте листа были дописаны уже другим, мелким и кудрявым женским почерком: «Уважаемая Наталья Александровна. Володи больше нет. Выполняя его просьбу, я посылаю Вам эту посылку, а также его записку ко мне касательно Вас. Мне кажется, это правильно, чтобы она была у Вас. Постараюсь писать Вам регулярно, когда станет немного легче. Тамара Агафонова».
«Гр-ке Агафоновой Тамаре Сергеевне, – было написано на втором листе. – Извещение. Ваш брат, лейтенант медицинской службы Агафонов Владимир Сергеевич, уроженец гор. Ленинград, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество и погиб 28 августа 1943 года. Копию заверил нотариус нотариальной конторы № 3 Шевчук Иван Григорьевич».
Две недели спустя они сидели вместе на нарах и рассматривали сделанный Осей по памяти Володин портрет.
– Я вдруг подумала, – сказала Наташа. – Он меня ни разу не видел в красивом платье, с причёской, всё только телогрейка да валенки. Как обидно, Оля.
Голос у неё задрожал, Ося взяла её руку в свои, пожала.
– Когда родители умерли, у нас с сестрой не стало прошлого. Потом меня посадили, исчезло настоящее. А теперь у меня и будущего тоже нет. Зачем мне жить, Оля?
– Чтобы выжить и рассказать сестре. Чтобы она знала, какую цену мы заплатили за нежелание думать, её и таких, как она. Чтобы не дать им забыть или повторить.
– Ты права, – сказала Наташа. – Я раньше так не думала, а теперь думаю. Нет им прощения за то, что они с нами делают. Никакая высокая цель того не стоит. И не надо было мне, нельзя было ничего подписывать.
– Ты же из-за сестры, – напомнила Ося.
– Ничего бы они не сделали, – сказала Наташа, кулаком вытирая слёзы. – Ну, посадили бы. Так, может, и лучше, поумнела бы.
Новости с фронта добирались до них с опозданием в несколько недель, но всё-таки добирались. После Сталинградской битвы в лагере словно добавилось света, вдруг начались повсюду разговоры, кто что будет делать, когда война закончится и всех отпустят, разговоры, которые раньше, ввиду полной их безнадёжности, опытные зека себе не позволяли. В том, что их отпустят, не сомневался никто: ни охранники, ни начальство, ни сами зека. Начлаг поздравил Осю со снятием блокады, начальник КВЧ, для которого она рисовала очередной плакат, пошутил, что сохранит его и будет всем хвастаться, когда после войны Ося станет известным художником. Слово «амнистия» летало в лагерном воздухе неутомимой весёлой птицей.