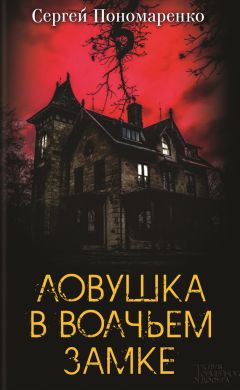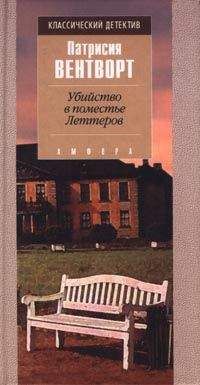Жан Жене - Богоматерь цветов
Альберто отвезли в больницу, где он скончался: злой дух был изгнан из селения.
Нотр-Дам-де-Флер. Его рот был приоткрыт. Иногда его взгляд опускался вниз, на ноги, обутые, как надеялась толпа, в балетные туфли. Безо всякого на то основания от него ждали движения танцовщика. Служащие непрерывно перетряхивали папки с делами. Маленькая гибкая Смерть на столе была неподвижна и казалась бездыханной. Штыки и каблуки сверкнули.
- Суд идет!
Суд вышел из потайной двери, проделанной в настенном гобелене позади стола присяжных. Нотр-Дам, наслышанный в тюрьме о пышности судов, представлял себе, что сегодня по какой-то грандиозной ошибке он войдет через распахнутый настежь главный вход, как в Вербное Воскресенье священнослужители, обычно выходящие из ризницы через дверь сбоку от хоров, приводят верующих в изумление, появляясь у них за спиной. Суд вошел, с фамильярной величественностью принцев, через служебную дверь. У Нотр-Дама возникло предчувствие, что заседание будет сфальсифицировано и что к вечеру его голова окажется отсеченной, как в трюке с зеркалами. Один из гвардейцев потряс его за плечо и сказал:
- Встань.
Он хотел сказать: "Встаньте", но не решился. Зал стоял безмолвно. Затем шумно опустился на скамьи. Г-н Ваз де Сент-Мари носил монокль. Он искоса взглянул на галстук и обеими руками принялся копаться в деле. Дело было напичкано деталями, как кабинет следователя был напичкан делами. Заместитель прокурора, сидевший напротив Нотр-Дама, молчал, как могила. Он чувствовал, что одно его слово, чересчур обыденный жест тут же превратят его в адвоката дьявола и подтвердят канонизацию убийцы. Это был труднопереносимый момент; он рисковал своей репутацией. Нотр-Дам сел. Легкое движение тонкой руки г-на Ваз де Сент-Мари заставило его встать.
Допрос начался:
- Ваше имя Адриан Байон?
- Да, месье.
- Вы родились 19 декабря 1920 года?
- Да, месье.
-В...?
- В Париже.
- Так. В каком округе?
- В Восемнадцатом, месье.
- Так. Вы... В вашем кругу вы имели прозвище... (Он поколебался, затем:)
- Назовите его суду.
Убийца ничего не ответил, но имя, даже не будучи произнесенным, вырвалось на крыльях через лоб из головы толпы. Оно поплыло над залом, незримое, благоухающее, тайное и таинственное.
Председатель ответил вслух:
- Да, именно так. И вы являетесь сыном..?
- Люси Байон.
- Отец неизвестен. Так. Обвинение... (Тут присяжные - их было двенадцать - приняли удобные позы, которые, благоприятствуя их склонностям, в то же время позволяли им сохранять достоинство. Нотр-Дам по-прежнему стоял, его руки свисали вдоль туловища, как у скучающего и зачарованного королевича, глядящего со ступеней дворцовой лестницы на военный парад).
Председатель продолжал:
- ...в ночь с 7 на 8 июля 1937 года, не оставив видимых следов взлома, проник в квартиру, расположенную на пятом этаже здания по улице Вожирар, 12 и занимаемую господином Рагоном Полем, шестидесяти семи лет.
Он поднял голову и взглянул на Нотр-Дама:
- Вы признаете эти факты?
- Да, месье.
- Следствие уточняет, что вам открыл сам господин Рагон. Так, по крайней мере, вы заявили, не представив тому доказательств. Вы подтверждаете это?
- Да, месье.
- Далее, господин Рагон, который был знаком с вами, якобы обрадовался вашему приходу и предложил вам выпить. Затем, неожиданно для него, при помощи... (он поколебался) ...этого галстука вы его задушили.
Председатель взял галстук.
- Вы признаете, что этот галстук принадлежал вам и явился орудием преступления?
- Да, месье.
Председатель держал в руке этот гибкий галстук, похожий на вызванного духа, галстук, на который нужно было смотреть, пока еще было время, потому что он мог с минуты на минуту исчезнуть или, как половой орган, жестко напрячься в сухой руке Председателя, почувствовавшего, что если эта эрекция или исчезновение произойдут, то он будет выставлен на посмешище. Поэтому он поторопился вручить орудие преступления первому присяжному, а тот передал его своему соседу, и так далее, причем ни один не решился задержаться с его признанием, потому что, казалось, рисковал у себя же на глазах превратиться в испанскую танцовщицу. Но предосторожности этих господ оказались тщетными, и, сами того не заметив, они полностью переменились. Стыдливые жесты присяжных, казавшихся заодно с судьбой, управлявшей убийством старика, неподвижный убийца, похожий на духа, которого вопрошает медиум, и благодаря этой неподвижности отсутствующий, и само место этого отсутствия - все это погружало зал во мрак, а толпа хотела видеть все четко. Председатель говорил и говорил. Вот он дошел до вопроса:
- Кто навел вас на мысль воспользоваться этим способом убийства?
- Он.
И весь мир понял, что Он - это мертвый старик, который теперь, уже погребенный и пожираемый червями и личинками, вновь играл свою роль.
- Убитый!
Крик, который вырвался у Председателя, был ужасен:
- Сам убитый указал вам, каким способом его нужно было умертвить? Ну-ка, ну-ка, поясните.
Нотр-Дам, казалось, смутился. Нежная стыдливость мешала ему говорить. А также робость.
- Да. Это... - сказал он, - на господине Рагоне был галстук, который сдавливал ему шею. Он весь побагровел. И он снял его.
И убийца, тихо-тихо, как если бы он шел на нечестную сделку или милосердный поступок, признался:
- Тогда я подумал, что если бы жал я, то было бы хуже.
И еще немного тише, чтобы было слышно только гвардейцам и Председателю (а толпа не услышала):
- Потому что у меня хорошие руки. Председатель, подавленный, опустил голову:
- Несчастный! - сказал он. - Но зачем?
- Я был сказочно беден.
Поскольку слово "сказочное" используют, как определение богатства, казалось возможным применить его и к бедности. Эта сказочная бедность соорудила Нотр-Даму облачный пьедестал: он был так же волшебно славен, как тело Христа, возносящегося, чтобы остаться одиноким и неподвижным в залитом полуденным солнцем небе. Председатель ломал свои красивые руки. Толпа хмурила лица. Секретари комкали листы копирки. Адвокаты внезапно приобрели взгляд ясновидящих кур. Гвардейцы священнодействовали. Поэзия работала над своим материалом. Один Нотр-Дам был в одиночестве и сохранял свое достоинство, то есть он еще оставался персонажем древнего мифа и не ведал ни о своей божественности, ни о своем обожествлении. Остальные не знали, что и думать, и предпринимали сверхчеловеческие усилия, чтобы оставаться на берегу. Руки с вырванными ногтями цеплялись за любую спасительную досточку: закидывать ногу на ногу и обратно, уставиться на пятнышко на пиджаке, думать о семье задушенного, ковырять в зубах.