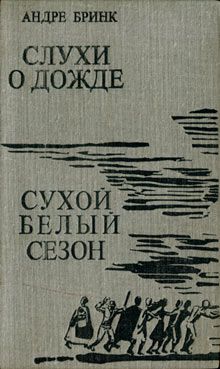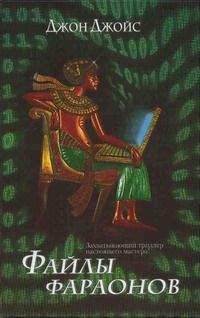Андре Бринк - Сухой белый сезон
Чувство принужденности рассеивалось, и, по мере того как все сидели в этой изнуряющей летней жаре, праздновали рождество и, покрываясь потом, жевали, решительно накладывая на тарелки полной мерой все, что дано было днесь, снисходило великодушие. Мы с Сюзан единственные не черпали из этого рога изобилия: у нее не было настроения, у меня — аппетита.
Как раз переменили тарелки и подали каждому невероятных размеров порцию доброго рождественского пудинга, готовить который теща принялась еще за месяц с лишним до рождества, когда в парадную дверь постучали, просто забарабанили.
Йоханн открыл.
И тут вдруг в комнату ворвался Стенли, этакая черная махина в белом костюме и белых туфлях, коричневой рубашке, ярко-красном галстуке и с таким же платочком, парадно торчащим из кармана пиджака. Постоял, покачиваясь, ища меня глазами. Я сразу понял, что он нагрузился, пожалуй, больше обычного.
Нашел меня и проревел:
— Lanie. — При этом он неловко задел букет на краю стола, и цветы полетели на пол, а он, широко улыбаясь, с этакой американской бесцеремонностью, подхваченной из какого-нибудь кинобоевика, приветствовал присутствующих развязным: — Привет, люди! Здорово!
За столом воцарилась мертвая тишина, все как сидели, так и застыли, не донеся ложки до рта.
Я как в дурном сне поднялся и, не чувствуя под собой ног, двинулся к нему по мягкому, ворсистому ковру, купленному Сюзан к празднику рождества. Глаза присутствующих следили за мной.
— Стенли! Что вы здесь делаете?
— Так ведь рождество, разве нет? Пришел отметить. Примите поздравления с рождеством Христовым. Общий привет. — Он широко развел руками, показывая, что обнимает всех нас.
— Вы хотите видеть меня по какому-нибудь делу, Стенли? — Я понизил голос, так чтобы нас по возможности не слышали, — Может быть, пройдем ко мне в кабинет?
— Нужен мне ваш кабинет! — Он выругался.
Я растерянно оглянулся и обратился к нему:
— Ну, если вы предпочитаете здесь, садитесь…
— Вот именно. — Он, пошатываясь, пошел к креслу и тяжело опустился в него, тут же вскочил, потрепал меня по плечу. — Представьте мне счастливую семейку! Это кто же будет?
— Вы слишком много выпили, Стенли.
— Еще бы. А почему и не выпить? Праздник ведь доброй воли. Самое время, а? Мир на земле, в человецех благоволение.
Из-за стола поднялась мрачная фигура тестя.
— Кто этот кафр? — прозвучало в гробовой тишине.
Затем последовал смешок Стенли. Тесть, побагровев, двинулся к нам, и я сейчас же встал между ними, чтобы не случилось самое страшное.
— Почему бы вам и вправду не объяснить этому буру, кто этот кафр? — сказал Стенли и вытер глаза: он расхохотался до слез.
— Бен! — В голосе тестя звучал металл.
— Да объясните ему, что мы старые друзья. А, белый? — И Стенли снова заграбастал меня в объятия, навалившись всей тушей, я еле на ногах удержался. — Или я не прав?
— Конечно, друзья, Стенли, — сказал я примирительно. — Папа, мы потом обсудим это. Я все объясню.
Ничего не отвечая, тесть повернулся и вышел из комнаты.
— Мать, собирайся, — сказал он. — Похоже, нас больше не желают здесь видеть.
Ад кромешный, что тут началось. Сюзан кинулась удерживать отца. На нее набросилась с упреками Хелен. Георг пытался урезонить жену, но тщетно. На него буквально обрушилась Сюзетта; Йоханн встал на сторону сестры. Линда ударилась в слезы и, всхлипывая, выбежала из комнаты. Хлопнула входная дверь.
И тотчас комната оказалась пустой, ни единой живой души. И только ангелы на подсвечниках кружили свой хоровод. На тарелках оставались куски знаменитого тещиного рождественского пудинга. А посредине ковра стоял, пьяно покачиваясь, Стенли, не в силах удержаться от хохота, который теперь буквально сотрясал его, точно назло мне.
— О черт, приятель, — он просто стонал от хохота, — ты хоть раз видел в своей… — он снова выругался, — …жизни, чтобы вот так кидались врассыпную?
— Может, вам это и кажется смешным, Стенли. Мне нет. Вы хоть понимаете, что вы натворили?
— Я?! А что? Просто пришел поздравить, я же сказал. — И он снова разразился хохотом.
Из соседней комнаты доносились всхлипывания тещи и голос ее супруга, сначала успокаивающий, затем все более на высоких тонах.
— Ну? — произнес тут Стенли, похоже и сам отрезвев, на минуту хотя бы. — Как бы там ни было, счастливого рождества! — И протянул мне руку.
У меня не было никакого желания отвечать ему пожатием, но я сделал это, чтобы ублажить его.
— Кто это все-таки, этот толстобрюхий старый… — он выругался, — в черном фраке? Все повадки владельца похоронного бюро…
— Мой тесть… — И я прибавил со значением: — Член парламента.
— Вы шутите?!
Я покачал головой. Тут он и вовсе зашелся от хохота.
— Ого, да у вас связи что надо. И такую компанию вам распугал. Слушай, извини, старик. — Впрочем, он отнюдь не выглядел раскаивающимся.
— Есть хотите? — спросил я его.
— А что, наскребете чего и мне?
Тут уж я взорвался:
— Знаете, Стенли, всему есть предел. Вот вам стол, из-за которого вы выгнали людей, садитесь и давайте — или выкладывайте, зачем пришли, или катитесь ко всем чертям.
— Правильно. По всем правилам. Знай, кафр, свое место! Так?
— Что с вами сегодня? Может, вы мне объясните наконец?
— Да не валяйте вы дурака, приятель. Будто сами не знаете.
— Вы что, явились сюда орать на меня или действительно что-то сообщить мне? — не выдержал я.
— С чего это вы взяли, будто я должен вам что-то сообщать?
И хотя я понимал, как это нелепо, ведь Стенли был вдвое сильнее меня, я схватил его за плечи и тряхнул изо всех сил.
— Скажите вы наконец, зачем пожаловали? — прокричал я. — И что с вами происходит, хоть это я могу знать?
Стенли отстранил меня резко, так что я покачнулся, а сам остался стоять на нашем рождественском новом ковре как ни в чем не бывало. Будто и не был пьян.
— Вы ведете себя просто неприлично, — выпалил я ему. — Вместо того чтобы в такой день побыть с Эмили, вы вламываетесь сюда и доставляете неприятности людям… Вам не кажется, что лучше было бы побыть сегодня с ней, с Эмили, и…
И тут он перестал качаться и вообще корчить из себя пьяного, взглянул на меня налитыми кровью глазами и тяжело-тяжело вздохнул.
— С Эмили? — усмехнулся, посерьезнел. — Зачем вы так?
— Ради бога, Стенли, что все это значит, эти недомолвки? — взмолился я, вконец сбитый с толку. — Единственное, что я имел в виду…
— Нет ее, никакой Эмили, — сказал Стенли. — Мертвая она, Эмили.
Ангелочки вели свой бронзовый хоровод, позванивая хрустальными подвесками. Только это и улавливал мой слух. Его же слова я не воспринял, как не слышал вообще ничего, что творится в доме.
— Что вы сказали?
— Да вы оглохли, что ли? Орать мне, что ли?
— Не понимаю. Бога ради, Стенли, что вы такое несете? Повторите.
— Да нет уж. Празднуйте свое торжество-рождество. — И он запел, возопил на манер ярмарочного Санта-Клауса: — «Хоть и небо твой чертог…» — Но тут же умолк, точно вспомнил, где он и зачем. — Вы что же, и о Роберте ничего не слышали?
— О каком еще Роберте?
— Да о сыне ее. Ну, что сбежал тогда, после смерти Гордона.
— А с ним что?
— Подстрелили. Вместе еще с двумя его приятелями, когда переходили границу. Вчера еще. С оружием переходили. Кинулись очертя голову, вот и нарвались на армейский патруль. Подстрелили.
— А потом? — Я все еще пребывал в оцепенении.
— Сегодня утром, как узнал, пошел к Эмили рассказать, куда денешься. Она так спокойно все приняла. Ни суеты, ни слезинки — ничего такого. Выслушала и велела мне идти. Откуда мне было знать? По ней ничего незаметно было. А потом она и… — И у него перехватило голос.
— Да что потом, Стенли? Не плачьте вы. О господи боже, Стенли, да прошу же вас, успокойтесь.
— На станцию она пошла. На вокзал Орландо, вот что потом. Пешком. Говорят, с час там сидела. Поезда ведь почти не ходят. Рождество ведь. Ну, дождалась все-таки и кинулась под колеса. И конец, в один миг.
У него дернулись губы, и я подумал, что вот он опять разразится своим дурацким хохотом, но он зарыдал. Я едва стоял на ногах, а он навалился на меня всей своей тяжестью и сотрясался от рыданий.
Так я и стоял посреди гостиной, обхватив его руками, когда родители Сюзан с чемоданами проследовали по коридору к двери. Сюзан за ними. Я видел в окно гостиной, как они тащили чемоданы к своему автомобилю у калитки.
Вечером она сказала:
— Я тебя уже спрашивала, но повторю: ты отдаешь себе отчет в своих поступках? В какую историю теперь влип, ты понимаешь?
Я отвечал:
— Я одно знаю: теперь уже поздно раздумывать. Идти, так до конца. Если я потеряю веру в справедливость, я сойду с ума.