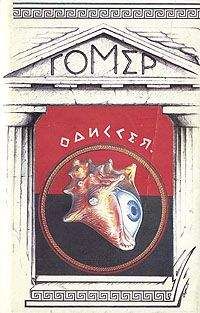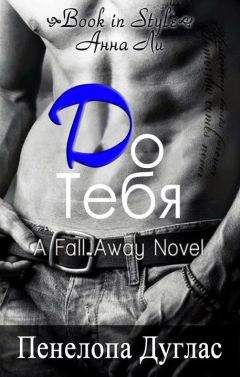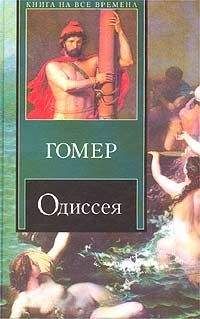Аллен Курцвейл - Шкатулка воспоминаний
– Вы никогда не рассказывали мне о своих механических исследованиях.
– Ты еще не был готов. Хотя я подталкивал тебя в этом направлении. Или, выражаясь точнее, подталкивал к самопродвижению. Вся твоя учеба должна была завершиться знакомством с мадам Дюбуа, открытием Вселенной автоматов. Впрочем, она тоже не была готова. Я хотел представить вас друг другу, когда она научится играть ровно. Но как видишь, – аббат поднял руку, до сих пор сжимающую молоточек, – мне это не удалось…
– Почему вы так и оставили ее незаконченной?
– А почему второсортные художники-портретисты начинают писать пейзажи? Они просто не в состоянии передать выражение человеческого лица и мягкие складки драпировки. Я не закончил ее, потому что не мог закончить. Я проверил и перепроверил все подсчеты и механизмы, однако так и не понял, в чем беда. Эта неудача заставила меня встретиться лицом к лицу с другой, что однажды постигла меня. – Аббат уронил голову, а затем печально осмотрел часовню.
Клод задал вопрос, который хотел задать с самого первого дня пребывания в поместье:
– Вы имеете в виду тот день, когда вас лишили духовного сана?
Аббат взглянул на бывшего ученика, почти радуясь, что дело наконец всплыло на поверхность. Он вздохнул:
– Да. Про этот период своей жизни я никогда не рассказывал. А теперь расскажу, это поможет понять, почему я так переживал из-за мадам Дюбуа. На самом деле она была для меня больше чем «курцвейл».
Так аббат открыл Клоду последнюю камеру своей раковины, сделанную не из камня и извести, а из отчаяния и горьких воспоминаний.
– Я уже рассказывал тебе, – начал он, – о моих путешествиях в качестве миссионера. Только не говорил, почему я путешествовал и почему в конце концов покинул орден. Это касается моего страстного увлечения учителем, замечательным человеком, бельгийцем, которого звали Эверард Меркуриан. Он был прямым потомком главы иезуитского ордена… Ох, подагра замучила! Полагаю, нам придется продолжить беседу в более теплом окружении. Кроме того, эта комната угнетает меня.
Они прошли в библиотеку, где аббат уселся в гроб-исповедальню.
– Я сейчас говорю, а чувствую, что в этом кресле должен сидеть ты, а не я. Впрочем, надеюсь, ты не против, если я поставлю свой возраст выше всякого символизма?… Так на чем я остановился?
– Вы рассказывали о неком отце Меркуриане.
– Ах да, Эверард! Великий механик! Я никогда не мог с точностью сказать, то ли Бог ему наука, то ли наука – его Бог. Думаю, я разделил эту его любовь после того, как начал учиться в церковной общине. Я был молод, быстр и готов на все. Он постоянно проявлял свою симпатию ко мне, а я – к нему, по некоторым причинам, которые нельзя объяснить. Отец Меркуриан называл меня Вечным двигателем, или Человеком, который движется. Я разрывался на части для него, как когда-то это делал ты, радуясь любому заданию. Несчастья начались, когда Эверард согласился заботиться о моем духовном, интеллектуальном и физическом развитии. По этой причине я впервые отправился в Индию. Архиепископ думал, что путешествие за рубеж ослабит возникшую меж нами связь. Конечно, расстояние, нас разделившее, не ослабило, а, наоборот, усилило мое желание. Когда я вернулся, мы вновь встретились и занялись работой. Архиепископ в это время отправился в очередной раз спасать мир. Мы остались на попечении его помощника и товарища, который только и мечтал, чтобы разлучить нас. В первые месяцы после моего возвращения такой возможности мы ему не предоставили – сидели тихо и мало чем занимались, разве что обдумывали механические идеи Эверарда. Он был моим учителем, я – его верным помощником. Так мы демонстрировали преданность друг другу и Господу. Ты, наверное, удивишься, с какой стати иезуиты занялись часовым делом, когда вокруг были и другие, более насущные, проблемы. Скажем так: терпение и вера одинаково важны и для часовщиков, и для священников. Ты не должен удивляться тому, что священники с незапамятных времен что-нибудь изобретали. Кто привез первые часы в Китай? Иезуит. Кто подарил миру волшебный фонарь? Ты помнишь?
– Конечно. Атанасиус Кирхер,[93] иезуит. У Ливре был отличный экземпляр его «Великого искусства света и тени». Я постоянно в него заглядывал. Книжка напоминала мне о временах, когда мы днями просиживали в лаборатории красок и смотрели на говорящую челюсть.
Аббат продолжил:
– Когда Эверард был в Риме, ему довелось побывать в самом Кирхериануме. Он часами рассказывал мне о механических и гидравлических приспособлениях. Правда, дело осложнялось его плохим знанием немецкого. Он полагал, что коллекция животных Кирхера заслуживает даже большего внимания, чем коллекция мавристов в Париже, которая, как ты знаешь, очень неплоха. Он частенько говорил мне: «Ной обязательно выбрал бы еще парочку тварей, пройди он по музею Кирхера!» Так, снова я забыл, о чем говорю!
– О механиках-иезуитах.
– Да, да! Вот тот же Камю. Он был священником до того, как стал мастерить игрушки для короля. А Пьер Жаке-Дро?[94] Студент теологического факультета готов был играть с религией, пока не понял, что может создать собственную религию из игрушек! Общество церковников в Невшателе потеряло отличного пехотинца Армии Господа, зато мир обрел кое-что получше! Все это я говорю затем, чтобы ты не удивлялся, обнаружив двух иезуитов – одного старого, другого совсем юного, – сооружающих непонятные механизмы к вящей славе Божьей.
Клод пододвинулся к аббату.
– Первой нашей серьезной задумкой стало изображение сцены Рождества Христова. Мы рассказали о намерениях помощнику архиепископа, который сначала подозрительно отнесся к нашему энтузиазму, а потому изо всех сил постарался помешать. Ему это не удалось. Несколько толстых кошельков поддержали все стремления Эверарда, а меня не выгоняли, потому что отец постоянно жертвовал общине крупные суммы денег.
На сцену Рождества Христова нас вдохновили «Духовные упражнения». И в наши намерения не входило создание глупой, скучной игрушки. Мы хотели отдать полную и последнюю дань размышлениям святого Игнатия о Царстве Божьем. Ты помнишь их?
Клод и аббат повторили урок, выученный в первый день второй недели пребывания в поместье.
Начал аббат: «Главное – понять человека, каким бы он ни был…»
Тут подхватил Клод: «…принять любого, обретающегося на земле…»
«…одетого и нагого, белого и черного…»
«…пребывающего в мире иль в войне…»
«…в радости иль в печали…»
«…в болезни и во здравии…»
«…умирающего иль новорожденного».
– Да, – сказал аббат. – Мы даже поместили Смерть в наши механические ясли, дабы отобразить всю глубину духовных наставлений Лойолы. Разные люди делали разные вещи. Отцы-иезуиты поражались нашему творению. Если кто-нибудь клал монетку на язычок, головы трех волхвов склонялись в смиренном молчании, а шесть рук поднимались к горящей звезде Вифлеема – на самом деле это был осколок хрусталя, правильно подсвеченный.
Затем нас начали критиковать. Сейчас, когда я вспоминаю прошлое, это кажется мне еще более смехотворным. Вид маленького Иисуса не понравился помощнику. Он приказал Эверарду придать фигурке «более благочестивый вид». (Этот идиот не признал себя в конюхе, разгребающем навоз!) Эверард так взбесился, что за день до показа нарочно уронил фигурку маленького Иисуса на ступеньки алтаря. Времени на его починку не оставалось. Когда прихожане рассматривали сцену Рождества Христова, вместо Спасителя они увидели лишь восковую свечку и даже не обратили на нее внимания – Иисуса затмили другие чудеса механики, в частности, хрустальная звезда!
После этого Эверард сказал: «Если он хочет благочестивого Иисуса, то получит его!» Тогда-то Меркуриан и начал работу над фигурой в полный рост. Можешь представить, что тут началось! Помощник пытался запретить проект, но Эверард одержал над ним победу, ловко используя в качестве аргумента все те же «Духовные упражнения».
«Мы, праведные иезуиты, – сказал он, – должны «подобно Святой Троице лицезреть бренную нашу Землю и всех человеков ее, пребывающих в слепоте, в грехе почивших и низвергшихся в ад». Другими словами, Эверард объяснил свои стремления теологически, а посему получил что-то вроде духовного благословения на строительство. Сам себе он дал три месяца. «Наш Христос будет готов к пасхальному воскресенью!» – сказал мой учитель.
– То есть ко Дню Воскрешения, – заметил Клод.
– Точно! Наш механический Спаситель должен был отдать дань уважения Кирхеру, Камю и всем остальным апостолам бога часовщиков. И это еще не все. Послушники прозвали Эверарда сыном Церкви, а также Резины, Слоновой Кости и Золота. Не стану мучить тебя рассказами о его исследованиях.
– Ну пожалуйста!
– Так и быть. Мы собирались привести в движение голову, руки, ноги и пальцы. Все это было не так страшно, как кажется. Эверарду даже удалось придумать систему, позволяющую Христу закатывать глаза к небесам. Головной болью стало другое – как обеспечить движение жидкостей, крови и слез по телу? После долгих экспериментов мы разработали систему, основанную на трубках-сосудах из индийской резины, а это, заметь, случилось еще до того, как Маке опубликовал свою работу о свойствах каучука! Мы работали всю зиму, а трубки продолжали трескаться. Наконец наступил март, и наш первый удачный эксперимент завершился – нам удалось доставить слезы Христа к его глазам (это были капельки китового жира). Эверард и я не сомневались в успехе до тех пор, пока нас не посетили оба противника сразу – помощник архиепископа и архиепископ собственной персоной, вернувшийся из путешествия в Перу. Два идиота осмотрели наше незаконченное творение. Они выискивали недостатки, но молчали. До самого конца. Наконец архиепископ повернулся к Эверарду и молвил: «Христос не плакал на кресте».