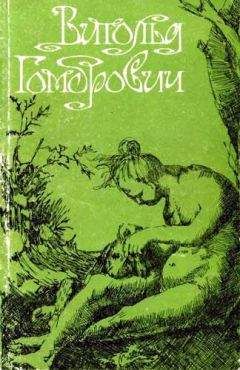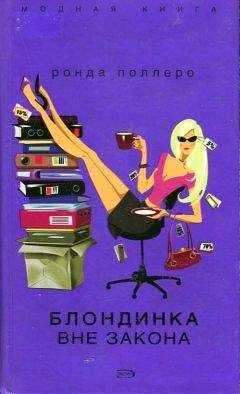Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника.
Пришло время кончить эти признания. Ничего из того, о чем я здесь пишу, не было для меня «решено» — все осталось в виде фермента до дня сегодняшнего. Может, когда-нибудь я расскажу, как в последующие годы новое вторжение в мою жизнь той моей родины, Польши, отдалило меня от Ретиро и частично вернуло меня к другим делам. Если я и должен был освободиться от этого аргентинского опыта, то лишь затем, что, по-моему, важно, чтобы человек, обращающийся к публике, литератор, иногда выводил своего слушателя за фасад формы, в кипящий котел своей частной истории. Что, смешная и даже унизительная? Только дети и добродушные тетки (стародевическая невинность которых, к сожалению, является важным фактором нашего общественного мнения) могут представить себе, что писатель — это существо спокойно возвышенное, благородное духом, поучающее с высот своего «таланта» о том, что есть Добро и Красота. Нет, писатель не сидит на вершинах, а снизу лезет в гору, и кто бы посмел серьезно требовать, чтобы мы на нашей бумаге развязывали все гордиевы узлы существования? Человек слаб и ограничен. Человек не может быть смелее, чем он есть на самом деле. Рост силы человека может произойти только тогда, когда другой человек поделится с ним своей силой. Поэтому задача литератора состоит в том, чтобы эти проблемы привлекали к себе всеобщее внимание и дошли до людей, — а уж там их как-нибудь решат.
В заключение я хочу добавить, что чувство именно этого бессилия по отношению к проблеме склоняло меня в следующие годы к переходу от теории к людям, к конкретным человеческим личностям. Из туманов Ретиро вышли две задачи, явные, важные, определяющие, смогу ли я в будущем высказываться откровеннее или же буду вынужден прятать себя... Первая из них, ясное дело, — придать первостепенное значение этому второстепенному слову «мальчик», и в добавление ко всем официальным алтарям построить еще один, на котором стоял бы молодой бог худшего, низшего, незначительного во всей своей связанной с дольним мощи. Вот необходимое расширение нашего сознания — ввести, по крайней мере в искусство, по крайней мере в мое искусство, другой полюс становления, назвать человеческий тип, который роднит нас с несовершенством, заставить воздать ему почести! Но здесь возникает вторая задача, ибо даже задеть кончиком пера эту тему было невозможно без предварительного освобождения от «мужского начала» , и чтобы иметь право говорить или писать об этом, я должен был сначала преодолеть в себе страх перед несовершенством в этом отношении, перед женственностью. Ах! Я знал эту мужественность, которую на себя напускали они, мужчины, в своем кругу, подстрекая друг друга к ней, принуждая друг друга в паническом страхе перед женщиной в себе, я знал мужчин, напряженных в стремлении к мужчине, судорожных самцов, обучающих мужественностью. Такой мужчина искусственно культивировал свои черты: был чрезмерен в тяжеловесности, грубости, силе и важности, был тем, кто насилует, кто завоевывает превосходством, а потому — боялся красоты и очарования, — этого орудия слабых — заходился в мужской чудовищности, становился разнузданным и тривиальным, или глупым и бездарным. Высшим воплощением этого «обучения» были, видимо, те банкеты пьяных офицеров царской гвардии, на которых привязывали веревку к члену, после чего под столом один дергал другого за веревку, а тот, кто первый не выдерживал и вскрикивал, тот платил за ужин. Но дух этой культивируемой мужественности проявлялся во всем, можно сказать — в истории. Я видел, как таких мужчин их паническая мужественность лишала не только чувства меры, но и какой бы то ни было интуиции в общении с миром: там, где следовало быть глубоким, он бросался, толкался, пер напролом. Все становилось в нем чрезмерным: героизм, строгость, мощь, добродетель. Целые народы в таких пароксизмах бросались как бы на шпагу тореадора — в жутком страхе, как бы зрители не приписали им даже самой слабой связи с ewig weibliche... У меня не было никакого сомнения, что этот надутый бык поскачет на меня, когда учует, что я покушаюсь на его бесценные гениталии.
Чтобы предотвратить это, я должен был найти для себя другой путь — кроме мужчины и женщины, но который, однако, не имел бы ничего общего с «третьим полом» — внесексуальный и чисто человеческий путь, с которого можно приступить к проветриванию этих душных и зараженных полом окрестностей. Не быть прежде всего мужчиной, быть человеком, который лишь на втором плане мужчина, не идентифицировать себя с мужским началом, не хотеть этого... И только если бы я таким образом решительно и явно порвал бы с мужским началом, его суд надо мной потерял бы свою силу и я мог бы тогда много рассказать такого, о чем рассказывать не принято.
Но эти проекты остались проектами. В ходе моего дальнейшего пребывания в Аргентине необходимость заработка придавила меня до такой степени, что с тех пор какая бы то ни было реализация в длительной перспективе и в широком масштабе стала технически невозможной. Я не мог сосредоточится. Бюрократия поглотила меня и задавила своими бумагами, сиречь, своим абсурдом — тогда как настоящая жизнь удалялась от меня, как море в час отлива. Из последних сил я написал «Транс-Атлантик», в котором вы найдете много из рассказанного здесь, а потом я был обречен на поденную литературную работу, такую как этот мой дневник, где ничего не могу вам передать, кроме беглого резюме, убого рассудочного, почти журналистского. Трудно. Но пусть и это будет хоть каким-то следом моего вживания в другую, в скорбную родину, в Аргентину, которую послала мне судьба и от которой я бы уже не смог окончательно оторваться.
* * *Не без влияния на написание этих воспоминаний остался тот факт, что недавно полиция Буэнос Айреса провела большую чистку в местном Коридонизме. Арестовано несколько сот человек. Но что может полиция перед лицом болезни? Разве она в состоянии арестовать рак? Наложить штраф на тиф?
Лучше было бы обнаружить невидимую бациллу болезни, чем заглушать симптомы. Но кто здесь больной? Только ли больные? Или еще и здоровые? Я не разделяю того узкого взгляда, который усматривает здесь лишь «половое отклонение». Отклонение — да, но имеющее свой корень в том, что вопросы возраста и красоты в «нормальных» людях не достаточно явны и свободны. Эта немота и немощь одна из наших самых тяжелых.
Неужели вы не чувствуете, что здесь и здоровье ваше становится истерическим? Вы смущены, замкнуты.
Поэтому я и хочу говорить. Но я должен сказать: ничего из того, что я говорю, не является категорическим. Все гипотетично... все находится в зависимости — (к чему скрывать?) — от того эффекта, который последует.
Эта черта определяет всю мою писательскую деятельность. Я пробую играть разные роли. Принимаю разные образы. Придаю моим переживаниям самые разные смыслы — и если какой будет принят людьми, то я сохранюсь в нем.
Это во мне — юношеское. Placet experiri, говаривал Касторп, но допускаю, что это вместе с тем единственный способ проведения идеи, что смысл чьей-нибудь жизни, чьей-нибудь деятельности определяется между данным человеком и другими. Не только я придаю себе смысл. Смысл мне придают и другие. Из соприкосновения этих интерпретаций возникает какой-то третий смысл, который определяет меня.
* * *Вот сирены, свистульки, ракеты, выстреливающие из бутылок пробки и шум большого города, охваченного большим движением. В эту минуту на землю ступает Новый Год 1955. Одинокий и отчаявшийся, я иду по улице Коррьентес.
Ничего не вижу перед собой, ничего... ни проблеска надежды. Все во мне заканчивается и ничего не хочет начинаться. Итоги? Кто я после стольких напряженных и заполненных трудом лет? Чиновник, сожранный семью часами присутствия, зажатый во всех писательских начинаниях. Ничего не могу писать, кроме этого дневника. Все идет насмарку, потому что ежедневно, в течение семи часов я совершаю убийство собственного времени. Столько сил я вложил в литературу, а она сегодня не в состоянии обеспечить мне минимума материальной независимости, более того — даже минимума личного достоинства. «Писатель»? Подумаешь! На бумаге! А в жизни — ноль, второсортное существо. Если бы судьба наказывала меня за мои грехи, я бы ничего не имел против. Но меня жизнь бьет за добродетели.
Кого здесь винить? Время? Людей? Но сколько других, еще безжалостней раздавленных. Мне не удалось настолько, что в Польше мною помыкали, а сегодня, когда, наконец, и один и другой меня зауважали, для меня не находится места, я бездомный до такой степени, что как будто я вообще живу не на этой земле, а вращаюсь где-то в межпланетном пространстве, как какая-то одинокая планета.
* * *Я прогуливался по эвкалиптовой аллее, когда из-за дерева на меня вышла корова.
Я остановился, и мы смотрели друг другу в глаза.
Ее коровость настолько удивила мою людскость — этот момент, в который наши взгляды встретились, был так неприятен — что я смутился как человек, то есть в моем, человеческом качестве. Странное чувство и впервые мною познанное — этот человеческий стыд перед животным. Я позволил ей смотреть на меня и увидеть меня — это нас сравняло — вследствие чего и я стал животным — но странным, даже, сказал бы, непозволительным. Я продолжил прерванную прогулку, но мне стало не по себе... в природе, которая со всех сторон окружала меня и которая как будто... рассматривала меня.