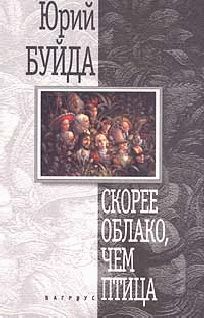Юрий Буйда - Все проплывающие
Весной, когда зацвели яблони, я пригласил учителя в наш сад, откуда открывался вид на топкий луг со стадионом в центре, на прегольскую дамбу и парк с нагромождением крон всех оттенков зеленого. Дорожка делила сад пополам и, вильнув лишь однажды, перед старой яблоней о трех стволах, упиралась в ржавую калитку рядом с бетонной компостной ямой, обсаженной соснами. Яблоня-то и заинтересовала Дер Тыша. Лицо его вдруг приобрело сердито-сосредоточенное выражение, глаза сузились. Он установил треногу штатива, долго смотрел в видоискатель, вращая кольцо наводки на резкость, – наконец нажал спуск. Потом еще раз. И еще. Он сделал тридцать пять снимков. После этого, не обращая на меня внимания, быстро собрал штатив и едва ли не бегом покинул сад. Раздосадованный его странным поведением, я решил больше не ходить в фотокружок.
Отец неодобрительно относился к моей дружбе с учителем. Вздернув свой твердый и круглый генеральский подбородок (так называл его парикмахер По Имени Лев, которому раз в неделю выпадала честь брить моего батюшку. Очередь в парикмахерской – десяток немолодых людей, располагавшихся вдоль стены на скрипучих стульях, – переставала жевать последние новости, и в зальчике воцарялась тишина, пока По Имени Лев в нарастающем темпе правил золингеновскую бритву на кожаном ремне и со звоном – разз! разз! разз! – снимал пену со щек и генеральского подбородка. Процедура завершалась прожаренной салфеткой, которую По Имени Лев прикладывал к лицу клиента, а потом – финал – к своему жирному потному лицу. Готово. Очередь, шумно выдыхая, начинала скрипеть позвоночниками и стульями. Отец закуривал крепкую папиросу и, подмигнув своему отражению в зеркале, покидал парикмахерскую. Он был директором самой большой в городе фабрики, от которой зависело благополучие большинства обывателей), он произнес своим жестким тоном:
– Синие губы не любят жизнь. Этот Соломин живет мимо жизни. Ты не умеешь выбирать друзей. – И с горечью заключил: – Весь в меня.
– Синие губы? – удивилась мать. – Да у него просто сердце больное…
На следующий день Дер Тыш не пришел в школу: заболел. Тотчас после уроков я отправился навестить его. Жил он в маленьком домике за рекой, на улице, спускавшейся к пойменному лугу. Если весной Преголя поднималась слишком высоко, на улице заливало подвалы. Издали – с моста – это нагромождение черепичных крыш, алевших среди лип и каштанов, вызывало умиление у поклонников братьев Гримм и Андерсена, однако жить в этих пряничных домиках, лишенных водопровода и проеденных сыростью, было удовольствием не из больших.
Дер Тыш не удивился моему приходу, но был явно смущен. Он проводил меня в гостиную – с продавленным диваном под зеленым плюшем, круглым столом посередине, кафельной печкой в углу, тусклым семейным портретом – он, жена и дочь – на стене, дребезжащим застекленным шкафчиком в простенке между окнами. Пока он возился в кухне, я разглядывал корешки книг: «Обломов», «За нашу советскую Родину» с красивым тисненым портретом Генералиссимуса, «25 уроков фотографии», тюбингенский Шиллер, роскошный юбилейный Клейст, Гете с золотым обрезом (позднее я узнал, что учитель выпросил Гете у соседа, который сложил из немецких книг перегородку между свинарником и дровяником), «Анна Каренина», зеленый однотомник Леонида Андреева с черным портретом писателя на обложке…
Он принес поднос с чашками, банку крыжовенного варенья и большой жестяной чайник, который бухнул на голую столешницу. Из шкафчика, из-за «Анны Карениной», достал бутылку темного стекла, заткнутую бумажкой, – капнул настойки в чай, запахло медом и вишней.
В комнате было сумрачно – из-за разросшихся в палисаднике туй.
– Прости, пожалуйста, старого невежу, – пробормотал Николай Семенович. – Но там и тогда… в вашем саду… мне было бы трудно объяснить причину… Да и сейчас… видишь ли… – Он приложил чашку к своим синим губам – я разглядел на донышке скрещенные саксонские мечи. – Дом, в котором вы сейчас живете, когда-то был моим домом… то есть он принадлежал моему тестю… отцу моей жены.
Я ждал.
Он вздохнул:
– Ладно, терпи. Придется с самого начала…
Он родился в глухой и нищей белорусской деревне близ Орши в краю, где люди умирали от голода, колтуна и мрои. После смерти отца, израненного под Гумбиненом в четырнадцатом и на Перекопе в двадцатом, семья – мать и шестеро детей – вместе с другими деревенскими перебралась под Донецк, завербовавшись на восстановление Донбасса, разрушенного Гражданской войной. Мужчины спустились в угольные забои, женщины и дети влились в местную сельхозартель, вскоре преобразованную в колхоз. В шахтерском районе было легче пережить великий украинский голод. Страшнее оказался ящур. Каждый день ветеринары с милицией вывозили очередную павшую корову и хоронили в заснеженной степи. Ночью владельцы коровы – всей семьей – отправлялись на место захоронения, разводили костер и съедали все, что могли съесть. Некоторые после этого умирали.
Мать отличала Николая между прочими своими детьми: он рано научился читать и мог часами наизусть цитировать Ветхий Завет, лишь иногда перевирая незнакомые слова. После школы был зоотехникум, затем армия и война, которую Соломин встретил батальонным писарем. Под Харьковом он попал в окружение и в плен. Жарким летом сорок первого десятки тысяч пленных сходили с ума от жажды и голода в тянувшихся на километры голых оврагах. Раз в день по деревянным желобам им спускали сахарную свеклу и давали немного теплой мутной воды. Часовые сверху с ужасом наблюдали за оборванными русскими, которые грызли грязные бураки или молча лежали на иссохшей земле под палящим солнцем.
Наконец их вывезли в Германию. Соломин попал в Восточную Пруссию и был определен в работники к господину Теодору Титце, занимавшемуся торговлей и переработкой молока. Каждое утро на подводах и по узкоколейке прибывали бидоны с молоком, из которого на маленьком заводике выделывались велауские сыры и масло. В сезон господин Титце нанимал пришлых литовцев, которых по старинной традиции, воспринятой от предков – переселенцев из-под Зальцбурга, называл «бурасами». С началом войны бурасам стало много труднее добираться с берегов Немана к берегам Прегеля. Зато появилась бесплатная рабочая сила – русские военнопленные и брошенные в шталаги активисты польского националистического движения.
Соломина и других красноармейцев поселили в длинном низком доме под черепичной крышей, где обычно располагались сезонники-бурасы. Николай быстро схватывал чужой язык, и вскоре Титце – коренастый седеющий молчун с татарскими глазами – сделал Соломина старшим над русскими. По воскресеньям Соломина приглашали к хозяину на обед, за общий стол. Он тщательно чистил старенький полотняный костюм, выданный старухой-домоправительницей, и умывался под колонкой в саду (с золой вместо мыла). Товарищи беззлобно подшучивали над ним. И только Толя Афроськин, деливший с Николаем комнату в доме бурасов, с ненавистью шептал: «Ссучился ты, Колька, родину продал, погоди…»
За обеденным столом Соломин всякий раз оказывался напротив зеленоглазой дочери господина Титце – Марии (про себя он звал ее Машенькой), и всякий раз у него сжималось горло при взгляде на ее маленькие губы или полноватые руки. Машенька тоже смущалась и краснела. Домоправительница госпожа Ребуль (ее предки были французскими гугенотами, обретшими землю обетованную в Пруссии) неодобрительно покачивала своим острым черепом, обтянутым чепцом. И только господин Титце невозмутимо резал мясо и прихлебывал красное вино. Так же спокойно воспринимал он и вечерние прогулки дочери с русским в саду, отлого спускавшемся к прорезанному мелиоративными канавами лугу. Когда же дочь сказала ему, что беременна, господин Титце уединился в своей комнате и всю ночь, как он выразился, беседовал с Господом. Наутро он отправился к капитану Штрибрны, от которого зависела судьба военнопленных. Как уж они решили эту действительно сложную проблему – Бог весть. Но решили. Николай Семенович стал зятем господина Титце и его деловым компаньоном.
Машенька родила зеленоглазую дочку, спустя полтора года – еще двух девочек. Жили молодые во втором этаже. Старшая девочка – Катя – с удовольствием ездила верхом на костлявейшей госпоже Ребуль, которая от избытка чувств начинала напевать суровые гугенотские гимны. Николай Семенович ложился на пол, прижимался щекой к нагретой солнцем крашеной половице и тихо-тихо постанывал: в такие минуты больше всего он боялся смерти. Толя Афроськин усмехался: «Теперь тебе каюк. Жениться на фашистке, наплодить фашистят…» – «Я ее люблю, Толя, – говорил Соломин. – И девочек люблю…» Толя морщился. «Во-во, так ты нашим и скажешь: я их любил – фашистов и ихнюю родину, пока они мою родину уродовали». Он покашливал: под Харьковом пуля задела легкое. «По-твоему, люди только мы, – пытался возражать Соломин, – а они не люди…» – «Люди. Но ведь мы на войне».