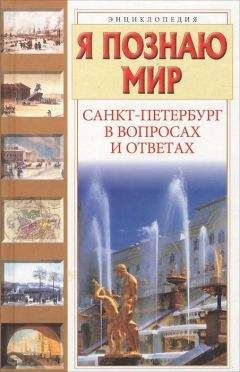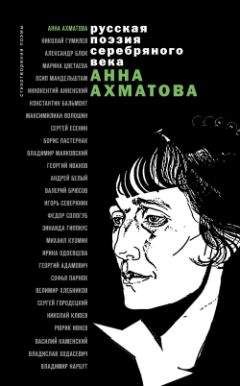Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Поэты и комиссары. Одни комиссары уйдут потом в поэты (читайте историю советской литературы!), а другие, напротив, перестав быть поэтами, станут комиссарами, Я говорю, например, о прехорошенькой поэтессе, в которую были влюблены Северянин, Есенин, Гумилев, а также многие другие, – Ларисе Рейснер. Блок отлично знал ее. Ее отец, профессор Рейснер, как я говорил уже, был когда-то учеником и поклонником еще отца Блока. Теперь, вернувшись после боев Гражданской войны, Лариса не только вместе с Городецким навестила поэта на Офицерской улице, но и пригласила Блока к себе. Знаете куда? Нет-нет, – не на Гороховую, но тоже в «официальный» дом. Может, в самое красивое здание города – Адмиралтейство (Адмиралтейская наб., 16), где внутри расхаживали ныне «красные» уже матросы – «краса и гордость» революции.
Лариса не только работала здесь в 1920-м – жила: муж бывшей поэтессы–декадентки, морской начальник большевиков Федор Раскольников, «устроил» себе квартиру именно в Адмиралтействе. Он станет командующим Балтийским флотом, отец Ларисы – начальником Политуправления Балтийского флота, а сама она, в отлично пригнанной черной морской форме, которая, говорят, очень шла ей, – комиссаром Главного морского штаба. Вот эта «революционно-морская семья», «ревсемейство», как ехидно прозвали ее поэты, и пригласила к себе Блока.
«Три окна на Медный всадник, три окна на Неву», – сориентирует нас Ахматова, которая тоже была здесь однажды у Ларисы. То есть угловая комната на третьем этаже. Я со съемочной группой телевидения не так давно с большим трудом проник внутрь Адмиралтейства, где ныне размещается Военно-морское училище имени Дзержинского. По «наводке» Ахматовой мы искали комнату Ларисы. Длинные гулкие коридоры, переходы, лестницы – все изнутри напоминало цитадель. «Я знаю, знаю, – сказал капитан третьего ранга, сопровождавший нас, – это, видимо, класс водолазного плавания. Так что, как у нас говорят, – за мной!..» Это действительно оказался просторный, но уж слишком унылый учебный класс. Схемы, развешанные по стенам, планы, какие-то карты, окна, в которых, через Неву, был прекрасно виден университет и рядом с ним ректорский дом, где родился Блок, простые столы и скамейки. Вот, собственно, и все. Ничто не напоминало здесь рабочую комнату Ларисы – ее знаменитый военно-морской салон[61]. (Жила она с мужем, отцом и матерью в шикарных апартаментах в другом крыле здания, куда нас почему-то не пустили; там, кстати, до революции обитал с семьей адмирал Григорович, бывший морской министр России). Лет тридцать назад этот «салон» с беспощадной иронией описал в своих мемуарах прославленный адмирал Исаков. Он, молоденький моряк, служивший на кораблях Волжской флотилии и знавший Ларису по Гражданской войне, вспоминал неких дам в креслах, куривших здесь пахучие папироски, пуфики, бесчисленных краснофлотцев-ординарцев, тянувшихся перед Ларисой в струнку, и роскошные обеды едва ли не на царских сервизах[62]. Блока, к слову сказать, в те же примерно дни Чуковский позовет на лекцию, где взамен гонорара их угостят… супом и хлебом. «Любопытно, – пишет Чуковский, – Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: “Нисколько. До войны я был брезглив. После войны – ничего”». Так–то вот!.. Одни в те годы едали на сервизах, другие – суп, да одной ложкой. Та же, видать, закономерность: чем лучше человек, тем труднее ему жить. Я даже не о поэте Блоке – о человеке, личности «исключительной душевной чистоты». Гумилев, который отнюдь не был другом Блоку, и тот как-то красноречиво обмолвится: «Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек…»
Так вот, в «салоне» Ларисы в день первого посещения его Блоком, как восторженно вспоминал Сергей Городецкий, ставший к тому времени начальником литчасти Политуправления флота, поэту встретились «товарищи, приехавшие на Коминтерн», и Лариса весь вечер была «неодолимым агитатором». Поэт Ольконицкий, известный нам по псевдониму Лев Никулин, который чуть ли не с начала 1920-х годов работал секретным сотрудником ВЧК – ОГПУ, пришедший сюда в бескозырке и бушлате, вообще утверждает, что Лариса позволяла себе «говорить с Блоком от имени революционного народа и требовать, чтобы он поднялся над своей средой и окружением». Правда, признает, что разговаривала она с поэтом, «пожалуй, даже напыщенно». И жаль, очень жаль, сокрушался потом Никулин, что на ее призывы Блок мягко ответил: «Вчера одна такая же, как вы, красивая и молодая женщина убеждала писать прямо противоположное…»
Когда-то, в 1969 году, работая в молодежной газете «Смена», я познакомился с седой красавицей – писательницей Екатериной Михайловной Шереметьевой. Она, в прошлом актриса, добрая знакомая, кстати, Михаила Булгакова, оказалась двоюродной сестрой Ларисы. Она мне и поведала тогда, что та, став комиссаром Балтфлота, именно в Адмиралтейство пригласила как-то на обед царских адмиралов, где их быстренько, бесшумно и всех скопом арестовали. Никто в родне Рейснеров, говорила Шереметьева, не сомневался, что это дело ее рук. Тогда же Шереметьева сказала мне, что сама она, будучи младше Ларисы, просто поклонялась ей, пока не узнала о сестре всей правды. Например, что Лариса напечатала как-то в «Известиях» очерк про то, как ее спасала от смерти у белых семья крестьянина-красноармейца. На самом деле, как сообщила в письме домой Лариса, все было «ровно наоборот»: ее спасла, невзирая на ее комиссарство, семья белого офицера. «Но ведь я не могла написать этого в газете», – оправдывалась потом Лариса перед домашними[63].
Впрочем, Блок, ничего этого, конечно, не знавший, запомнит свой первый визит к Ларисе еще и потому, что узнает автомобиль, на котором «великодушно» отправит его домой могущественная комиссарша. Поэт, как пишет все тот же Никулин, провожавший его, внимательно осматривал машину изнутри, потом долго разглядывал через стекло ее радиатор, особенно два блестящих медных обруча на нем, каких «не было ни на одной легковой машине в Петрограде». «Чей это автомобиль? – спросил Блок, наконец. – Мне кажется, я его узнаю… Это “дело–нэ-бельвиль”, автомобиль бывшего царя?» Никулин потом переспросит шофера–краснофлотца: правда ли это? «Правда», – ответит тот[64].
Но вернемся лучше в Толстовский дом, туда, где пока еще «пируют» дорогие мне и, надеюсь, всем нам люди. По странному стечению обстоятельств, я могу довольно хорошо представить обстановку его. Та же Екатерина Михайловна Шереметьева жила, когда я познакомился с ней, как раз в Толстовском доме – в такой же однокомнатной квартирке «большой коридорной системы», где Алянский и принимал друзей-литераторов. Все сходится: маленькая передняя, большая комната с желтым паркетом и кровать в алькове, больше похожем на отдельную, хоть и крошечную, спальню.