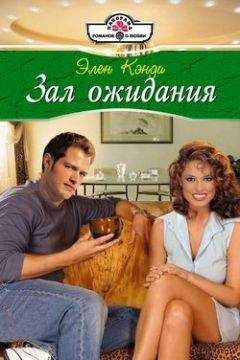Георгий Осипов - Конец января в Карфагене
"Ой-ой-ой", — нарочито громко взвизгивает Марченко и кривится.
Псарёв лишь дергает подбородком и шарит глазами по стенам, где развешены разные вымпелы и грамоты.
Неожиданно его взгляд находит то, о чем он как-то совсем забыл. Он надувает щеки и пихает локтем подельника, однако тот по-прежнему ничего не замечает.
Директор шипит, приплясывая, и, видимо, вспомнив выучку, больно тычет носком лаковой туфли в голень. Анатолий Акимович не подозревает, что за его спиной, на одном из кубков Псарёв все-таки сумел разглядеть то, что просмотрела уборщица Зоя — присохший кусок дерьма.
1977–2010
СОКОЛ
— Ни хрена себе уикенд! — воскликнул Клыкадзе, проверяя глубину лужи широким носком ботинка, — Возле кассы никого.
Для Псарёва не было новостью ни то, ни другое. Он уже знал, что ботинки американских полицейских не пропускают воду, а на танцы сюда никто не ходит.
Он побывал здесь в прошлые выходные с друзьями из соседней школы. Дожди еще не начинались, но на танцплощадке, равно как и в окрестном парке было пусто. От силы человек семь-восемь.
Псарёва не удивила такая слабая посещаемость — осень. К тому же он научился ценить своеобразную красоту безлюдных мест: пустые кинозалы, где показывают непопулярные фильмы, пустые вагоны трамваев и электричек, после того, как все разъехались на работу, пустые послеобеденные столовые, и читальные залы в будние дни.
Его поразило другое — со стороны танцплощадки, в тишине вечернего парка это было отчетливо слышно, доносился самый первобытный рок-н-ролл. Обычно в таком ритме поют что попало, машинально заполняя паузы примитивными соло, которых стесняются даже в дворовых компаниях. Странно совсем другое — одинокий солист с явным удовольствием пел пустой танцплощадке New York City Джона Леннона, никому не нужную в этом сезоне, когда все вокруг сходят с ума от «По волне моей памяти».
Человек у микрофона старался петь правильно непонятные, многословные фразы. Судя по всему кто-то дал ему списать слова. Возможно прямо с обложки. Псарёв конечно имел представление, как она выглядит — черно-белая газетина по типу Morning Star. Из-за безумного оформления (не говоря про музыку) с этим альбомом не любили связываться самые всеядные спекулянты. Больше всего их смущали Никсон и Мао. Граждане были убеждены, что фото настоящее. Главы двух сверхдержав пляшут с голыми сраками. Здесь им было бы самое место.
Надо же — раздобыл и выучил слова! Псарёв без колебаний проникся преждевременной симпатией к исполнителю, вообразив, как тот списывает, избегая ошибок, текст (скорей всего — с чужой рукописи), а в тексте строчек тридцать, не меньше.
Когда они подошли к парапету, окружающему танцевальный ринг, песня прекратилась. И наступила долгая пауза, потому что танцевать было некому, желающих потанцевать под следующий номер не нашлось…
— Ну, мы идем, или ты передумал? — вывел Псарёва из оцепенения Клыкадзе.
Обогнув лужу по бордюру — каждый со своей стороны, они допили вино, опустил пустой флакон, как это ни странно — в тоже пустую урну, и направились к освещенному сфероиду в глубине аллеи.
На неделе Псарёв, с непонятным ему самому восторгом, поведал Клыкадзе о точке, где до сих пор исполняют «старые вещи», сопротивляясь тошнотворной новизне, которой обязаны с закрытыми глазами радоваться безграмотные массы.
Клыкадзе выслушал его скептически, но зачем-то первый предложил:
— Надо съездить, послушать. Тысячу лет не бывал в подобных местах. Без понятия, что там сейчас лабают. Ты мне напомни в пятницу.
В пятницу Клыкадзе опился на заводе халявным спиртом, и всю субботу никому не открывал дверь (видимо привел домой бухую чувиху). Псарёв сумел добиться аудиенции с пивом лишь к воскресному вечеру.
Без шевелящихся на ее поверхности человечков площадка казалась меньше чем в летнюю пору. На чересчур высокой эстраде виднелись четверо музыкантов. Не покупая билета, Псарёв пытался рассмотреть их лица — состав мог измениться. Они как будто тянули время, опасаясь, что с новой песней снова хлынет дождь, а после нее — прекратится. Похоже, лидер ансамбля распугал своим «Нью-Йорк Сити» самых неприхотливых пэтэушников.
— Шо-то мало у вас народа! — ехидно заметил Клыкадзе за спиной у Псарёва. Он успел встретить каких-то знакомых.
— Так дождь же жь какой, Семеныч! — второй голос Псарёв мог где-то слушать.
Он незаметно оглянулся — Клыкадзе угощал «Примой» полупьяного дружинника. Вероятно они работают вместе.
Ансамбль заиграл какую-то советскую песню в среднем, похожем на «семь сорок» темпе, с припевом на два голоса. Гитаристу подпевал басист — в один микрофон. Клавишника было почти не слышно. Видимо они решили завершить ею отделение.
«Сокол», — прозвучало за спиной. Псарёв и без подсказки знал, что на сцене — Сокол. Он даже в курсе, что когда-то Сокол начинал весьма неплохо, но стал пить, угодил в скверную историю, опустился и надолго пропал из виду.
«Когда-то» это скорее всего лет шесть назад. А «надолго» — года на два?
Псарёв решил посмотреть, что отражается в лужах дождевой воды, но ничего определенного так и не разглядел. Действительность не отбрасывала тени, словно единый большой организм-вампир, одновременно принимающий множество форм и обличий, не дающих отражения.
Никаких признаков моды или современности, чтобы с точностью указать хотя бы год и сезон. Клыкадзе надел настоящие вечные ботинки (одни на весь город) — Police Special, USA, которые очень эффектно смотрелись бы году в 71-м под кожаным макси-пальто.
Тогда как раз очень любили цитировать неизвестно у кого спизженную фразу про «шамана в макси-пальто». Псарёву эти слова попадались в журналах регулярно.
Соколу и Клыкадзе еще не было двадцати… А сегодня ботинки заокеанского полисмена выглядят как казенная спецобувь, которую у нас выдают работягам или разносчикам телеграмм.
Среди случайных и неслучайных персонажей этого воскресного вечера (гладко, по-книжному рассуждал Псарёв) — от билетерши в будке до «бога подростков» (так в «Иностранке» перевели teenageIdol) — Сокола на сцене, никто не одет в импортные вещи, ну никто!
Самая яркая тряпка — повязка дружинника. И одна фирмá на всех — ботинки Police Special, подарок честному наладчику с «Кобылзавода» от его педерастических друзей из Крыма. Подарок, совершенный (Псарёв специально уточнял) в конце августа, в году ленинского юбилея. Буквально за пару недель до смерти Хендрикса и Джоплин.
Шуз был натуральный. Кому придет в голову подделывать такое?!
В отличие от Москвы, хиппизм на периферии не прижился. Да и кто здесь хипповал? Один больной в белых полукедах. Плюс еще один — дошел босиком до турбазы «Волна», и быстро вернулся обратно автобусом, рассказывать о своем подвиге местным стукачам и хлюпикам. Совсем еще недавно престижное прилагательное «хипповый» произносят стеснительно, иногда подменяя букву и смысл. Но «хитовый» о чем-то говорит лишь единицам.
Ни моды, ни бунта — Псарёв тряхнул головой, отгоняя сумрачные размышления. Он сделал это своевременно, потому что через танцплощадку, словно кудесник по воде, к ним собственной персоной приближался Сокол.
Псарёву очень хотелось задать музыканту пару вопросов, чтобы покончить с очередной (он это понимал) иллюзией.
Вблизи по внешнему виду Сокола еще сложней было распознать в нем человека, перешедшего на электрогитару под гипнозом необычных звуков конца шестидесятых, чье магическое воздействие до сих пор ощущает Псарёв, не ведая, что делать с этим дальше. Псарёву казалось ясно, как непоправимо коверкает людей время. В этом плане вымыслы и придуманные положения более жизнеспособны, нежели носители вымыслов, побывавшие в таких положениях.
Сокол быстро узнал Клыкадзе и громко с ним поздоровался, как человек, которому нечего стесняться. Поверх белой рубашки он был в темно-синем (словно от школьной формы) влажном пиджаке. Псарёв скользнул взглядом по рукаву в поисках нашивки. Влажные, зачесанные за уши волосы Сокола начинали седеть. Минимально расклёшенные брюки не прикрывали разношенных башмаков. Магазинные, определил Псарёв, «индпошив, фасончик? — накось выкуси!»
Клыкадзе деловито рассказывал Соколу о положении на заводе, протирая носовым платком запотевшие стекла дешевых очков (носить антикварные «леннонки» он уже стеснялся).
Псарёву сделалось досадно, что перерыв между отделениями, он это чувствовал, закончится не скоро.
Выслушав Клыкадзе, Сокол заговорил про свою “пахоту”, откуда его давно подмывает уйти. Только он не знает, куда податься потом. Плюс эти вот танцы — все лето были трижды в неделю, включая по четвергам. А в конце сентября — обрэзали. Он так и произнес «обрэзали» — по-кавказски. Хотя ставка остается прежней. Башляют по семь бумаг каждому. Правда, через неделю — конец сезона.