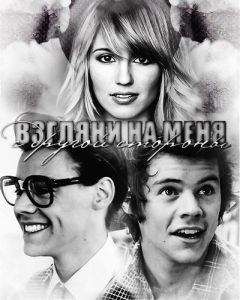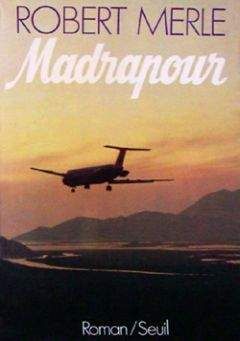Борис Черных - Есаулов сад
28марта. Боря Задерей, историк, сказал – события в Венгрии были неспроста. Боря тренерует нашу секцию по волейболу, технарь похлеще моих тонкостей, и с ударом, играет за сборную университета.
Читаю «Литературную Москву», толстый сборник, подаренный мне с надписью директрисой: «Характер у тебя строптивый, но эту книгу ты заслужил», – тронула. Правда, много раз я мог быть отмечен за учебу и прочее, но никогда меня не отмечали – дерзил всем подряд. Стихи: «в год затемнения и маскировки мы увидали ближних без личин», война.
Не датировано. Самустился, т. е. поддался искушению. Мама.
В горах чувство собственного достоинства у него возрастало.
Опрятные мысли.
Эмансипация мужчин.
Катосаться – плохо что-либо делать. Мама.
«Матюганчик» – так называл боцман на Зее свою дудку.
Национальная гордость: «Я не простая еврейка, я русская еврейка».
Смех должен быть плановым. Где-то услышанный лозунг.
Читаю Плеханова, он кажется эпикурейцем.
«Никакого увечья нащупать не могу, а они (бандюги) надвигаются». Из объяснения в милиции.
«Труд сыграл известную роль в превращении человека в обезьяну». Прекрасная оговорка на лекции.
«Я готов усомниться во имя истины даже в собственном существовании. Итак, меня нет. Григорий Борисович – фантом». Прием на лекции.
Юристы после ядерной войны:
– На этих священных камнях ООН… – и человечество начало второй виток.
Жизнь полюбить больше смысла ее. Толстой.
Математический факультет, второкурсница горбунья. Трагедия молоденькой, веселой, печальной горбуньи.
Личность, подавленная идеей. Личность, задавленная идеей. Что-то еще теплится, проблескивает. Но человека нет – вот Павел Корчагин. И не случайно он нравится нам – мы такие же, потерявшие себя.
Читаю Бунина, берет оторопь. Так писать сейчас никто не может – попадать в душу. Интересно, почему мы не слыхивали о нем в школе? А стоило прочесть хотя бы «Антоновские яблоки». «Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: „Много тенетника на бабье лето – осень ядреная…“ Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые алей, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег»… Вот, я читаю, все западает в сердце, мне охота на родину, на базарную площадь или на ту окраину, где мы классом проводили дни, где тек сладковатый запах с кладбища. И где издали я смотрел в прекрасное лицо Вали Кузнецовой…
Снова во сне одноклассники, с белыми воротничками. Они прикасаются ко мне и безмолвно исчезают. Я просыпаюсь в одиночестве, смотрю в окошко, меня начинает раздражать храп Венки Гончарова.
На лекции почти не хожу, только на семинары. Это дурацкое обязательное посещение – грозят лишить стипендии. Слушать Пертцика я не смогу и за тысячу рублей.
1959 годНе датировано.
– Не девочки, а букет цветов из Ниццы, – студент с филологического.
А часто брак – это узаконенный разврат.
Сразу после войны у нас на квартире живет агроном Савруев. Он говорит: «В сутках двадцать четыре минуты, я ничего не успеваю»…
Фундаменталка – единственное прибежище, здесь можно быть одному. Кругом люди, а ты один. На фронтоне стонут голуби.
«Этот писатель еще не уцененный». Фраза в букинистике.
Стиль-утиль. В полемике.
– Дайте мне квартиру Плеханова, – по телефону.
– А квартиру Троцкого не хотите?…
Говорят, вперед, заре навстречу. А «Заря»-то на ремонте, – кинотеатр «Заря» капитально ремонтируют.
«Мне еще на Большой Медведице говорили, что Венера любовница Марса».
«Нарсудья, на территории которого», – лектор. Больше на его лекции не хожу, не хожу на его территорию.
«Наука само по себе философия» – и – «истина беспартийна», – Юрий Львович Шервашидзе в частной беседе. У него благородная осанка, тонкое лицо и обтрепанные рукава старенького пиджака.
Он много занимается умственным трудом, демонстрируя одухотворенность. Каждое утро смотрится в зеркало, скоро ли полысеет. Ему ужасно охота полысеть и быть в двадцать лет высоколобым, – Толя Попов.
«Тельце что надо», – в ресторане, получив цыпленка-табака.
«Вы мне мозги не запудривайте. Я старый иркутский еврей, мне доподлинно известно, что дядя Сима похоронен под танцевальной площадкой». – Иерусалимское кладбище думают превратить в Парк культуры и отдыха.
– А я с дедом на колокольню лазил, звонил.
– То-то я иду и слышу что-то знакомое, – разговор отца с маленьким сыном.
Рукопись «Бессмертие» он забросил в чулан, ее там медленно пожирали мыши.
«Я тебя растила, но не сберегла, а теперь могила будет жизнь твоя, – Иерусалимка, надписи на камне. – „Белые лодки на том берегу. Жить не хочу, плыть не могу“. „Греховен был. Смиренен был? Едва ли. Зачем же вы меня так долго отпевали?“.
«Станислав Григорьевич вырос, получил образование, обзавелся семьей и работой». «Амурская правда», 27 августа.
Демагог Пертцик: «Студент не должен страдать политическим насморком».
«Эдик, не составите ли Вы мне компанию в туалет сходить?» – студент Гейкер.
Биологи о реакционном вейсманизме – признание наследственности, как решающем факторе в характере индивида.
«В окопах Сталинграда». Некрасов. Пронзительная интонация, таких книг о войне не читал. Все по боку – перечитываю. Снова простреливает насквозь.
Плакат сорвало, а надпись осталась: «Я застраховала свою жизнь. Срок страхования истек, и госстрах выплатил мне договоренную сумму» – второй год этот голый текст висит на широкой стене возле планетария.
Тридцатилетний студент-юрист: «Особенно мне понравилось в кино, как он… этот… преступник… рецидивист… идет… и… видит собаку… А та – раз, навострила уши… Это мне особенно понравилось».
«При переходе из одного века в другой»… – язык лектора.
«Наземным способом» – «Амурская правда».
Надклассовая позиция Павла Викторовича Лобанова: «Я за диктатуру человека над темными силами войны и мракобесия».
Снова на каникулах, перепалка о Маяковском – с Горбылевой. Любовь к Маяковскому – штамп патриотичности. Но почему любовь к Есенину не становится штампом? Я повторил: «Твой Маяковский водил гвоздем по стеклу, звук новый в поэзии, новаторский». Горбылева разозлилась.
Символюк – фамилия.
«Лучше говорить правду, чем быть министром». Жозе.
«Человек или очень счастлив, или очень занят».
Тополь, посаженный мной около баскетбольной площадки перед выпускными, прижился и выбросил два ствола. Раздвоенность тополя – тайный знак будущей моей раздвоенности. Но я хочу быть цельным и крепким.
«Не трогай, нахал! Я партийная женщина, я не позволю»…
Критикесса курит и задирает ногу на ногу, сразу видно – критикесса.
«Ненормальные люди могут быть вполне нормальными сумасшедшими» – лекция по судебной психиатрии.
«Ревность – отягчающий фактор, она свидетельствует о неизжитых буржуазных предрассудках и безусловно свидетельствует не в пользу обвиняемого». – Лекция по уголовному праву. Сижу и думаю о том, как исчезнуть с лекции. Это надо отменить Лермонтова, Толстого, Бунина, если ревность – отягчает совесть человека.
В каморке университетской газеты филолог Вампилов говорит: «В магазинах видели сибирские пельмени „Пафос“„. Никто не поверил, но всем стало смешно. Теперь я этот Пафос прикладываю ко всему подряд – тополя шумят с пафосом, с пафосом иду в кино, прическа новая «Пафос“…
«Как же им не откроешь дверь, когда они, желудочники-то, ломятся», – вахтерша в студенческой столовой.
«Ничто государственное мне не чуждо». Керенский.
На круге беристов две лекции Толи Попова по истории философии, умен, дьявол.
Разговор с Демьяненко, она на филфаке, а училась со мной в 9-й школе, но в 10 Б. Я говорю о том, как перевестись на филологический. Люда приносит мне программы по тем предметам, которые придется досдавать. Паникую: может быть, остаться на юридическом, а военка закончится – удрать, чтобы не распределили в прокуратуру или милицию. Нет, буду читать…
Часть II
1960 год
Август.
Гавриил Кунгуров занимался историей Албазинской крепости. Я попросил о встрече. Прическа под Алексея Толстого не вызвала у меня почтения. А он кокетничал: «С юридического, батенька, еще не выходило порядочных литераторов». – «Апполон Григорьев». – «Ну, какой же это литератор? Цыганщик». Я сказал дерзость: он, Григорьев, лучше Кунгурова. И мы расстались.
Марк Гортвангер (Сергеев) едет со мной на лекцию в воинскую часть, нас сопровождает лейтенант. У площади Декабристов Сергеев забегает домой, лейтенант торопливо спрашивает, что написал Марк Сергеев, я что-то вру безбожно (не читал).
Мое крещение благополучно, но запала хватает только на полчаса. Мы идем пешком обратно, Сергеев долго говорит о недостатках моей речи, прежде всего она неоптимистична, а надо, чтобы слушатель вдохновился. Но он напишет положительную рецензию, и я в процессе дальнейших чтений наберусь опыта.