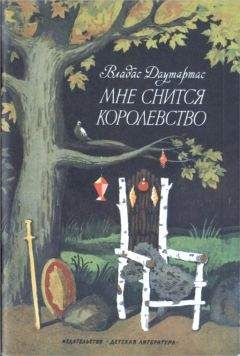Ёран Тунстрём - Рождественская оратория
— Что ж, он довольно образован.
— И Хагегордов.
— Пожалуй. У них ведь есть дети, тебе будет с кем поиграть.
Я фыркнул. Игры меня не интересовали. В школе я обычно держался особняком и не находил совершенно ничего веселого ни в беготне за мячом, ни в классиках, зато украдкой приносил книги, прятал их в парте, а на переменках читал, и мир книг был намного фантастичнее реального, Фаннина отрава уже начала действовать.
— Ты наденешь красное платье. Мы заранее решим, кого где усадить и разложим возле приборов именные карточки, ты будешь сидеть посередине, чтобы все видели, какая ты красивая.
— Кого еще ты хочешь пригласить?
— Я подумаю над этим.
Я бродил по городу, «рассудительно» заглядывая в окна магазинов на Главной улице, чтобы выискать достойные жертвы. Весь Сунне неожиданно изменился, люди выступали в новых ролях и выглядели по-новому. Подвергались оценке, отбору, одобрению, выбраковке. В стремлении добраться до претендентов я был бесстрашен и изобретателен. Так, я смело открыл дверь и вошел в магазин Класа Лёфберга. А когда он наконец обратился ко мне, я спросил, не видел ли он маму. Наведался я и к Калле Эстербергу, которому пришлось отпереть для меня туалет в подсобке. У дядюшки Кана, здоровяка с орлиным носом, кустистыми бровями и пышной шевелюрой, я попросил взаймы велосипедный насос, но такового у него не нашлось. Затем пришел черед парикмахера Ёнссона, уроженца Сконе. Этот слыл любителем вкусно поесть, что могло оказаться весьма кстати. Был он круглый как шар, загривок в складках, подбородок тройной, а то и четверной, руки короткие, вялые. В белом халате он вперевалку сновал по своей парикмахерской, разглагольствуя на сконском диалекте. К тому же вторых таких усов во всем Сунне не сыщешь — подлинно чужеземные, короткие, заостренные и, вероятно, крашеные, потому что отливали каким-то странным красным цветом. О, я прямо воочию видел, как он сидит за нашим столом, смакует наше вино и всякие разносолы, а месть наша будет ужасна. Вообще-то я сожалел о его горькой участи, ведь поход в парикмахерскую был для меня настоящим праздником: синие и зеленые флаконы пахли так приятно, на столах лежали кипы журналов, и я всегда надеялся застать большую очередь, потому что это означало ожидание, а в ожидании можно полистать «Пигге и Гнидде» и вволю надышаться сладкими запахами из флаконов и тюбиков. «Одиссею» мы еще не дочитали, поэтому я не был уверен, должен ли он вправду умереть или все ограничится легкой царапиной и устрашающим взглядом. Мама изумилась, когда я представил его как возможного гостя: почему именно он? Мы же не общаемся, и жена у него очень больная. Что у Ёнссона есть жена, мне даже в голову не пришло, но я не видел в женщинах прямого препятствия. Ужасную правду моего замысла я открыть не мог, а потому сказал, что, по-моему, он очень забавно смеется. Мне хотелось, чтобы гости были как нельзя более разные, подобно богам-олимпийцам, олицетворявшим разные жизненные позиции и темпераменты. В список вошел и один учитель, который жил недалеко от нас и о котором мама сказала, что он «страшно одинок». Звали его Бергман, и в тот день, когда мама обронила эту фразу, я увидел его совсем другими глазами. Долговязая, худая фигура в безупречно отутюженной одежде, руки в черных блестящих перчатках заложены за спину. При встречах с прохожими он учтиво, но без улыбки приподнимал шляпу. Этот Бергман преподавал математику и физику в реальном училище, и по отрывочным фразам, слышанным от мамы раньше, я заключил, что, как все одинокие бездетные люди, он был опасен. Пока мама не сказала, что он «страшно одинок», я считал его этаким кусочком мозаичной головоломки взрослой жизни, который безусловно занимает вполне определенное место, теперь же я просто не мог не ходить за ним по пятам, изучая его привычки. И вот, пожалуйста! Я видел это «страшное одиночество» во всех его чертах. Вычитывал в серьезных глазах, в морщинах на лбу, в горько опущенных уголках губ. Видел одиночество в перчатках, в шляпе, в наглаженных стрелках брюк. Сущий кошмар. Уже издалека я чувствовал приближение «страшного одиночества» — словно холодный ветер в жаркий летний день. Когда Бергман исчезал в своей квартире, над сестрами Седерблад, и за шторами вспыхивали желтые лампы, все желтые лампы в городе становились «лампами одиночества». Обедал он в гостинице, и зал ресторана, где прежде все сверкало под хрустальной люстрой и красочная симфония холодных закусок, приготовленных Царицей Соусов, тотчас задевала мои самые деликатные струны, — этот зал сделался теперь обителью одиноких. «Страшное одиночество» отсекало учителя от массы, обособляло, так люди, один за другим, обособляются, когда узнаешь их поближе.
Я замечаю, что благодаря маме у меня развилось классовое сознание: я не то чтобы очень уж косо смотрел на людей за пределами мира среднего сословия да и не понимал, что мы принадлежим к этому миру. Однако мои гости не должны были ни носить рабочие комбинезоны, ни иметь помятые лица, ни говорить на вермландском диалекте — ведь им предстояло беседовать с мамой. Я не морщил нос, глядя на этих «других», однако встречался с ними исключительно в условиях, когда они выполняли свою работу. Вне работы они не существовали. Ходить за молоком на арендаторский хутор — огромная радость, там пахло сеном и парным молоком, там гремели цепи, а мычание коров и кудахтанье кур вызывали ощущение чуть ли не греховного восторга, не менее приятно было поболтать с Янссоном, послушать матросские песни про моря-океаны, о которых он мечтал всю жизнь, — да, мне очень там нравилось. Но те, кто работал на ферме, только там и были на месте, вытаскивать их оттуда нельзя. Мыслимое ли дело — конфузить их нашими манерами, нашими запахами, нашими словами. Вдобавок я понятия не имею, каким виделся им, когда приходил с пустым молочным бидоном, в невероятно опрятном костюмчике, который опасался испачкать, понятия не имею, как они воспринимали мой страх перед животными и мои не по годам взрослые реплики, падавшие в коровий навоз, будто кусочки сахара. Тамошние ребятишки при моем появлении всегда затихали, разбегались и наверняка даже замечаний по моему адресу не отпускали — молчали обо мне, потому что я был другой породы.
А вот в пределах среднего сословия я, как мне казалось, имел свободу выбора: до поры до времени я воображал, что если человек умеет произнести слово «изысканный» так, как его произносила мама, то, значит, он тебе ровня, значит, все границы открыты. Но я ошибался. Стоило мне будто невзначай назвать несколько имен — и я вдруг услышал, что есть еще и верхняя граница. С настоящими богачами и с теми, кто слыл таковыми, она знаться отказалась. «Такая аристократичная публика, — сказала она и отвернулась. — Нам нечего им предложить». И мой мир разом съежился до узенькой щелки. У Валентина, заместителя директора банка, изъян был в том, что он часто ездил в Стокгольм, в Оперу, а его жена закупала провизию в Карлстаде. Еще один мой кандидат летал на самолете в Италию и с тех пор обожал лазанью. Мир съеживался, но разочарования я не чувствовал, ведь разочарования рождаются из обманов, а меня никто не обманывал. Удивление — вот что я чувствовал, телесная оболочка сомкнулась вокруг меня еще теснее. Изолированность. Обособленность.
Мама, возвышенная до истинной Пенелопы, мыла посуду, а я вызвался вытирать бокалы, которым предстояло стать оружием в борьбе, но не против кого-то или чего-то, а за Сиднера.
— Ты не отказался от мысли устроить праздник?
— Нет, мама.
Мне хотелось видеть сверкающее оружие, решительные движения — в противовес всей той женственности, которая меня окружала, но как раз об этом я заикнуться не смел, потому что видел ее хрупкость и одиночество и не мог, не мог уличить ее в несостоятельности.
— Но мы, наверное, можем подождать до Пасхи?
— Главное, чтобы праздник вообще состоялся.
Вдруг к тому времени на пороге появится Сиднер?
Но Одиссею, с намереньем хитрым в уме,
на пороге
Двери широкой велел Телемах поместиться;
подвинув
К ней небольшую, простую скамейку и низенький
столик,
Часть потрохов он принес, золотой благовонным
наполнил
Кубок вином и, его подавая, сказал Одиссею:
«Здесь ты сиди и вином утешайся с моими гостями,
Новых обид не страшася; рукам женихов я не дам уж
Воли; мой дом не гостиница, где произвольно
пирует
Всякая сволочь, а дом Одиссеев, царево жилище.
Вы ж, женихи, воздержите язык свой от слов
непристойных,
Также и воли рукам не давайте; иль будет здесь
ссора».[90]
Ей стоило огромных усилий решиться на этот шаг. Она робела куда больше, чем я думал, ведь ее манера держаться отличалась удивительным изяществом, а в улыбке сквозила редкостная мечтательная прелесть, к которой женихи должны были тянуться, как пчелы к летку. Но ничто не могло подступить к ней слишком близко, наверное, кто-то причинил ей некогда мучительную боль.