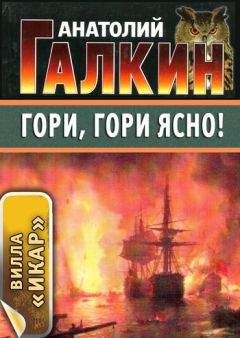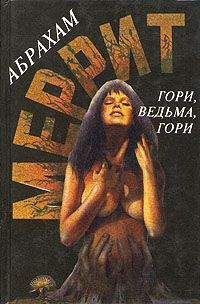Александр Бахвалов - Время лгать и праздновать
Они собрались побывать в церкви у Байдарских ворот, где, по сведениям Юли, находились работы Маковского, но утром, меняя колесо «Волги», он до крови ушиб запястье, рука вспухла, с трудом сжимались пальцы.
— Значит, не поедем?.. — Юля брезгливо смотрела на ушибленную руку. — Пропал день.
Чтобы день все-таки не пропал, решено было съездить в Судак, куда легче всего добираться «методом Андрея Первозванного».
На обратном пути, совея под навесом теплоходика, Нерецкой принялся листать новую Юлину брошюру и увидел на обложке карандашные строчки стихотворения.
Прислушайся — сугдейский сад!..
А где Сугдея?..
Почил в легендах древний град
Царицы-девы.
Стоял тут замок, говорят,
Но помнят горы
Не тяжесть каменных палат —
Тоску Федоры.
— Ты умеешь сочинять стихи?..
Разомлевшая от полуденного солнца, Юля коротко взглянула на него, на книжицу в его руках и, отвернувшись к сонному морю, сонно произнесла:
— Такие умею.
Она определила ему место на некоем отдалении от себя и не позволяла приближаться. Но почему-то теперь, когда Юля открылась ему с такой неожиданной стороны, ее отстраненность показалась ему незаслуженно обидной.
Часа полтора затем они молча слушали, как теплоходик с шипением и плеском распарывал синюю воду, оставляя позади расходящийся белый шов, похожий на расползающуюся застежку-молнию.
На причале Никитского ботанического сада высокий худощавый старик, с коричневым, сильно сморщенным лицом и белой головой, как в кимоно одетый в свободную стираную-перестираную матросскую робу, истово целовал спрыгнувшую на причал красавицу в широкополой шляпе:
— Где отец?.. Что не приезжает, я же скоро помру!.. — Этот веселый крик в лицо красавицы, в ее радостные глаза, которые никак не могли оторваться от истоптанного, исхоженного, выдубленного временем и солнцем стариковского лица, странно ошеломил Нерецкого. Спутник девушки, широкоплечий пухлощекий парень, с висючими усами и превосходительно-томной ленцой в движениях, по-хозяйски небрежно потянул красавицу за руку, но она так гневно отдернула ее, что парень смешался и отступил на несколько шагов, видя, но не понимая, почему вдруг оказался лишним.
Теплоходик попятился кормой в море, развернулся, тяжело кренясь вправо, глухо взревел нутром и, торопливо набрав привычный аллюр, снова принялся пороть синее полотнище воды, а перед глазами Нерецкого все стояли так искренне обрадованные друг другом старик и юная красавица. Что-то вечное было в ликующем крике старика, бесстрашно и правомерно единящее его скорую смерть и утреннюю жизнь девушки, ее блестящие глаза, блики солнца на приоткрытой груди.
«Я заселил душу пошлостью и ни на что не гляжу с благоволением, ничего не вижу в чистоте, — стыдил себя Нерецкой. — Как они хороши, старик и девушка, как хороши их лица, его поцелуи и все, что выражали, оказавшись рядом, его измятое, никудышное, отчаянно радостное лицо и ее прелестные счастливые глаза!..»
…Его больше не раздражал голос Юли, когда она, не успев возвратиться из очередной поездки, вслух прикидывала, куда сподручнее отправиться завтра: полюбоваться восходом солнца с вершины Ай-Петри («Говорят, зрелище часто портит облачность над морем»), поглазеть на таврские захоронения или попытаться взобраться на Яйлу по каким-то великаньим ступеням Чертовой лестницы, прорубленной в скалах неведомо кем, когда и зачем.
— По ней взбирался Пушкин!..
— И чего его туда понесло…
Возвращались все позднее. Юля мгновенно засыпала, а он, с трудом освобождаясь от суеты дня, напряжения езды, пролеживал часы без сна, без мыслей, слушая мерный собачий лай, беспрестанный и бессмысленный:
— Го! Гау! Го!.. — натужно прорывалось сквозь темноту глухое, как в бочку, гавканье. — Гау! Го! Гау!..
Наконец однажды утром они никуда не поехали. Все было изъезжено. После захода солнца Юля еще тянулась туда, где собирались толпы, где шумели, любовались чем-нибудь, щеголяли одежками — предвечерняя набережная в Ялте, выставки цветов, массандровские подвалы. И глаза ее больше не скользили невидяще по его лицу, когда ничего не ждешь, не ищешь, ничто не мешает довольствоваться тем, что есть.
Наступил третий, и последний период. Они опять стали близки, и Юлю это ничуть не стесняло, она словно бы приноровилась ко всем сторонам жизни у моря. Дни проходили бездумно, легко, она даже подсмеивалась над нескладным началом — в трех соснах заблудилась!.. Вообще часто и одинаково смеялась, как это свойственно людям с живым воображением, пережившим нелепейшее недоразумение. Приступы смеха накатывали в самое неподходящее время, и сколько Нерецкой ни спрашивал, что с ней, Юля отмалчивалась. Не говорить же, что ее потешает приключение девицы-стихоплета, возвышенной натуры, вообразившей себя Наташей Ростовой, собравшейся на первый бал, а вместо того угодившей сперва в толпу созерцателей похабщины, затем в пахнущий отхожим местом номер дорожной гостиницы и наконец — в этот замусоленный Крым!..
Ее ничуть не беспокоило, что Нерецкой может отнести эти приступы смеха на свой счет — подумать, что таким малохудожественным образом она дает понять, насколько он не тот, в сравнении с ее предположениями. Иногда она «выжимала» смех, как это делают люди, глядя на старого несмешного клоуна, своими антраша не вызывающего ничего, кроме стыда, за то, что пришли и тем заставили его кривляться. Натужное веселье всякий раз обрывалось апатией: только что хохотала, и вот лицо неприязненно стыло, глаза по-недоброму отстраненны.
И как-то ночью в сокровенную минуту у нее вырвалось и совсем несообразное:
— Мы подружились, правда?..
Ни в кино, ни в концерты они больше не ходили, ей лень стало взбираться к дому. Она рано засыпала, крепко спала, подолгу валялась в постели. Возвращаясь со двора умытым, в чистой рубашке, он целовал ее, иногда спящую, холодными губами.
— Почувствовал настоящий вкус?.. — спрашивала она.
«Вот бы и мне так «вкушать»… Люди едут сюда в поисках радости, а я все сделала для того, чтобы испортить первый в своей жизни праздник».
Обжитая Алупка надоела, все в ней было привычно, вплоть до лиц отдыхающих. Купались в одиночестве, у симеизских скал. Юля загорела, загар будто обтянул кожу шелковистой пленкой, округлил тело, придал ей новую прелесть. Пришло время припасенных для загара прелестных бус из крупных желтых, бирюзовых, оранжевых и черных камней. Смуглое тело и это таитянское ожерелье делали ее немного незнакомой.
Она и сама чувствовала себя новой, легкой, даже летучей — двигалась уверенно, говорила небрежно, и кажется, все видела, все примечала, в особенности то в людях, что делало их смешными. Она узнавала в них себя и зло смеялась над претенциозностью, настороженностью, растерянностью одних и жадным желанием других поскорее приобщиться к «клубничному», к тому, чего так хотелось, но нельзя было позволить себе дома, на глазах соседей и знакомых.
Для вечерних прогулок Юля чаще всего облачалась в легкие светлые брюки, сидевшие на ней без единой морщинки, и белый свитер. Костюм подчеркивал утвердившуюся на ее лице невозмутимую маску отстраненности от всего вокруг, придавал ей законченность. Что бы ни удостаивалось ее внимания, обо всем она судила однозначно: чуть не каждый разговор начинала с приглашения позубоскалить. Высмотрев в потоке дефилирующих по погруженному в предвечернюю тень Симеизскому проспекту эстрадную знаменитость, она тянула Нерецкого за рукав:
— Посмотри!.. Да не туда — вон, длинный, в синем пиджаке на красной подкладке, возле статуи Дианы!.. Как «кто»?..
И, умирая от восхищения, поведала, что это поэт, чья известность «дошла до сумки», то есть до изображений его портрета на магазинных сумках.
— Только такие невежды, как ты, могут не знать его стихов, над которыми краснеют школьницы, вздыхают мамы и ржут пародисты!..
После солнечных, в меру жарких дней, когда и на улицах дышалось так же легко, как у моря, погода испортилась, небо помрачнело, стало пасмурно, а в горах совсем темно и на взгляд жутко. Над Ай-Петри собирались особенно мрачные тучи, и когда их оказывалось слишком много, они скатывались к морю, висли над ним чернильными дымами, напитывая воду своей чернотой, по которой рассерженно бродили белые гребешки коротких волн.
Дождавшись просвета в небе и не зная, куда девать холодный день, забрались на прогулочный катер, чтобы взглянуть на предгорья с моря, но на первом же причале сбежали на берег с посиневшими носами. В следующие два дня не только не потеплело, но все упрямее моросило по утрам и было так зябко, что не хотелось вылезать из-под одеяла. Отдыхающие приходили на берег одетыми в теплые вещи и глядели на море. Но от этого глядения становилось еще холоднее, и никто больше не улыбался, казалось, будто все они перессорились. Перестав быть ласкающим взгляд зрелищем, большой теплой ванной, море отпугивало суровостью, неприязненно обособленной жизнью. И только чаек не смущала скверная погода. Они все так же умело летали над берегом и водой, так же аккуратно опускались на знакомые камни и, сложив крылья — точно сунув руки в карманы, — с невозмутимо-благожелательным выражением на желтоклювых физиономиях учтиво смотрели навстречу ветру. Чайки напомнили Нерецкому аккуратную девицу из числа Юлиных подружек, которых он видел в ночной электричке. Она точно так же невозмутимо относилась к шуму вокруг. «Ее ли это выбор или она у жизни избранница?..»