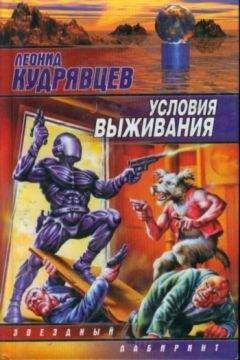Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 9, 2002
Правота молодости основана не на экспертизе, не на знании того, чего, к примеру, не знает тридцатипятилетний человек, а на свободе. Что это за свобода? Вы меня не купите ни на какую вашу художественность и прочую ботву, говорит нам тинейджер. Ваши критерии и авторитеты мне фиолетовы. Всякого, кто пытается меня лечить, я посылаю на. Меня цепляет только то, что цепляет на самом деле, и книжку, если вообще захочу почитать, я выберу сам. Подлинность контакта читателя и текста — вот ценность, ради которой многие действительно готовы бежать за комсомолом и даже задирают для этого штаны. Подлинность — не по достоинству произведения, но по чисто житейскому факту, который по-ленински упрям; рядом с ним та истинность, к которой пробивается художник, выглядит как нечто сомнительное, никем не доказанное, недостоверное. Короче, как отстой.
Подлинность — вещь как бы иррациональная, поскольку о познании себя и своих мотиваций тинейджер не помышляет, — удивительным образом соединяется в юном мозгу с пониманием механизмов успеха. «Двадцатилетние» вполне технологичны, и многими соискателями проект «Дебют» воспринимается как способ продать некоторых людей в качестве культовых авторов. То есть как систему назначений и выстраивание новой иерархической пирамиды весьма поодаль от взрослого мейнстрима. Если копнуть еще глубже, обнаружится трогательное романтическое представление о гении, который, ничему не учась, возникает весь целиком и получает признание вдруг, как изгнанный наследный принц получает трон. Такова воспроизводимая во всех поколениях психология авторствования: никакое знание механизмов раскрутки ее не победит.
Короче говоря, каждый «дебютант» ожидает благодаря проекту проснуться знаменитым. И для многих присутствие в «Дебюте» «взрослой» экспертизы становится шоком. Цитирую письмо, пришедшее по электронной почте: «Кто такие ваше жюри? Мы не знаем таких писателей. Как Веллер или Бовильский (так у автора. — О. С.) могут судить о молодежи, о ее чувствах? <…> Пусть председателем в „Дебюте“ будет Пелевин, а остальные пусть будут победители прошлого года». Поступали и другие предложения делегировать полномочия жюри «поколению next»: например, определять лауреатов «Дебюта» голосованием в Интернете. Эти воззвания и вотумы недоверия свидетельствуют о неготовности юных дарований переходить на взрослое профессиональное поле и вообще быть судимыми по законам собственно литературы. Легко вообразить реакцию Хлестакова на предложение предъявить для разбора «другого Юрия Милославского».
Таким образом, «поколение next» внятно проявляет волю к поколенческому суверенитету. Шовинизм? Еще какой. С кашей в башке и с наганом в руке. Шовинизм тем более внятный, что поколение не размыто, как «тридцатилетние» или «сорокалетние», но как нельзя более четко очерчено. Мне представляется, что константа в 35 000 рукописей за премиальный сезон как-то связана с другой неизменяемой цифрой: 25. Это предельный возраст для участников «дебютовского» конкурса. Сколько ни упрекали организаторов в условности возрастного барьера (особенно обидно было молоденьким «перестаркам», оказавшимся тут не при деле) — тем не менее организаторы случайно попали в десятку. Граница между теми, кто может участвовать в «Дебюте», а кто не может, совпала с метафизической трещиной, отделившей «next» от «before». Между прочим, в «Дебюте» потенциально заложен и механизм выхода человека из «next»: минует еще два-три года, и механизм заработает. Появится большая группа авторов, по возрасту потерявших привилегию рассматриваться в юниорском разряде и одновременно утративших право представительствовать от комсомола. Какими они будут, какого рода опыт успеют получить, прежде чем их вынесет в пустыню индивидуального взросления? Многим это безразлично. Многие думают, будто все произойдет примерно так, как происходило всегда: часть слепых щенков утонет, один гений повесится, другой более или менее научится жить и напишет нам литературу. Не произойдет. Образовалась емкость из весьма прочного материала, постоянно пополняемая новобранцами и исторгающая из себя «выпускников». Она, эта емкость, а не юные люди, в ней пребывающие, и есть «поколение next».
Почему так случилось? В чем новизна ситуации? В принципиально иной структуре информационных процессов. Оружие массового поражения завтрашнего дня — не атомная бомба, но информация. Предыдущие полвека люди учились жить при свете факта, что простым нажатием кнопки можно уничтожить город. Это изменило человеческое сознание. Теперь же мы на пороге мира, где целую культуру можно стереть, как папку с файлами. Ее попросту не будет, если некто с соответствующим чемоданчиком нажмет на «Delеte». Существует предельное число носителей языка, при котором язык еще жив. Существует и предельное число читателей Пушкина, при котором Пушкин наличествует. Уберите пиаровскую программу в виде школьного курса литературы — и нашего золотого XIX века не станет уже послезавтра. Надо ли удивляться, что новое поколение начинает жизнь со строительства бомбоубежища? Это только кажется, будто «поколение next» открыто и восприимчиво — в отличие от закосневшего «before». На самом деле там построены бетонные перекрытия и работают воздушные фильтры. При этом все имеет оборотную сторону. Убежище не защищает от прямого попадания информационного фугаса (например, той замечательной идеи, что русского романа больше не существует); более того — делает цель компактной, достижимой и экономит информационному агрессору его боезапас. В убежище также проникает вирус, являющийся программой, распознаваемой фильтрами как санкционированное и «свое». Пример вируса — «Господин Гексоген». А вот романы Слаповского — не вирус, а литература, поэтому «поколением next» они не прочитаны.
Видимо, 35 000 рукописей, при всей грандиозности цифры и впечатляющем объеме бумаги, есть тот минимум, при котором внутри поколения поддерживается письменная жизнь. «Дебют», распространивший информацию о себе через телевидение, этот минимум носителей русского письменного языка активировал и обнаружил. Стоит сказать о том, что именно происходит внутри убежища, где спасается от Пушкина и Пруста статистически неизбежный процент талантливых людей.
Повторяю: речь идет о прозе. В поэзии своя ситуация: чужие там почти не ходят. Прозаик же, в отличие от поэта, обязан иметь некоторое количество посторонних читателей: людей с улицы, людей из метро. Проза как вид искусства обязана учитывать нужды коммуникации. Поэтому она более поэзии зависима от социальности, от положения дел в обществе. От рынка, наконец.
Прежде всего бросается в глаза стремление «новых молодых» дистанцироваться от ближайших предшественников — адептов постмодернистской иронии и интеллектуальной игры. Сергей Шаргунов, лауреат «Дебюта» 2001 года в номинации «Крупная проза», — первый проявленный идеолог «поколения next». Называя постмодернизм мракобесием, он объявляет скучной литературную практику деструкции. Что ж, должен был наступить момент, когда эта истина прозвучала бы не из лагеря «сорокалетних», а от самых младших товарищей — потому что деструкция, во-первых, принципиально конечна, во-вторых, пребывает в сырьевой зависимости от логоцентричных авторов, по старинке шаманящих с поэтическим ресурсом языка. В качестве альтернативы моделям для сборки Шаргунов предлагает «новый реализм», или эстетику «прямого зеркала». Манифест Шаргунова, опубликованный в «Новом мире», а также на сайте «Дебюта», грешит большим количеством красивых фраз, не выражающих суть: «Все краски, все бледно недосказанное и яро оглушающее сливаются в новом динамичном движении. И смысл этих цветных ручьев — сама жизнь. Писатель показывает жизнь во всей ее полноте». Этот и аналогичные лозунги приложимы почти к любому типу письма, ибо что такое «сама жизнь» — еще никто не определил. Тем не менее Шаргунов описал — приблизительно, очень и очень «около» — то отношение искусства к действительности, когда решается задача в одно действие: действительность идет в текст, умножаясь только на эмоцию автора.
Шаргунов не столько теоретик, сколько практик: две его повести — «Малыш наказан», увенчанная «Дебютом», и новая повесть «Ура!» — являются образцами «нового реализма». В первой излагается история любви Сергея Шаргунова к богемной наркодилерше Алисе, в которой угадывается… впрочем, это к делу не относится. Вторая повесть — сознание и тело Сергея Шаргунова в точке, близкой к настоящему: новая влюбленность, ранний мемуар, а также взгляды автора на курение, наркотики, сексуальные меньшинства и прочее. Чем отличается «новый реализм» от реализма, скажем, традиционного? Прежде всего — отсутствием сочиненного сюжета, а также таких тонких вещей, как саморазвивающиеся характеры. Для автора не стоит проблема композиции, поскольку все в тексте более или менее равноценно. Истинно, потому что документально. Если в прозе на Шаргунове синее пальто, можно быть уверенным, что оно физически существует.