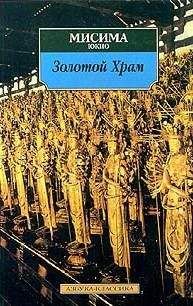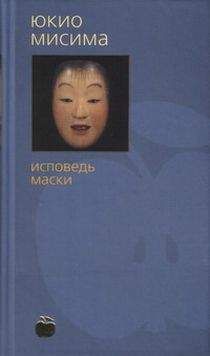Ричард Аппиньянези - Доклад Юкио Мисимы императору
Слова Хасуды изумили меня.
– Я обязан повиноваться ему. Но как вы можете просить, чтобы я из любви к вам подчинился воле филистера?
– Вот теперь я могу объяснить тебе, что такое идиот, – с улыбкой сказал Хасуда. И я понял, что ошибся, посчитав его тон отеческим. Нет, со мной скорее говорил человек, который внутренне был уже мертв. – Идиот – это тот же филистер, напрочь лишенный творческого начала человек, реалист, полная противоположность художнику. Возникает сложная дилемма. Дело в том, что идиотизм сосуществует с реализмом, которого художники вынуждены придержаться. Задумайся над этим. Искренность по отношению к объекту – а значит, и к самому себе – является этическим императивом, который входит в противоречие с художественностью и неизбежно превращает самого художника в реалиста. Вопрос заключается в следующем: может ли трансцендентный идеализм выдержать испытание реализмом? И не страдает ли само, реалистическое искусство от узколобого материализма? Или следует согласиться с героем Манна, Густавом фон Ашенбахом, в том, что любая философия приводит к скептицизму и крушению искусства? Но не заканчивается ли все это лицемерным «бегством от мысли», которое приводит к идиотизму реалистической антифилософии?
Беда реализма состоит в том, что он является автоматом, измеряющим ценность всего вокруг и низводящим все предметы и явления до механического уровня их значимости. Государственная и гражданская свобода, патриотизм и сопротивление, мир, военный и технический прогресс – все это одинаково значимые реальности. Реализм может устанавливать сходство между ценностями, которые находятся в конфликте, поскольку он считает себя их создателем, будучи по своему духу явлением консервативным. Он заявляет о себе как о памяти поколений, утверждает, что способен помочь народу и государству выжить в трудное время. Реализм считает, что именно он создал все вокруг: либерализм и расовые конфликты, индивидуумов и народ, разные образы жизни и учрежденные институты, социальную мобильность и расслоение общества, а также все другие известные антиномии. Идиотизм реализма укладывает вещи, идеи и слова ровными рядами, наподобие черепичной крыши, он творит механическую гармонию, в которой слышится скрежет зубчатых колес. Поэтому ярко выраженный реалист, то есть законченный идиот, – это не кто иной, как хранитель памяти поколения, хорошо известная нам порода людей, обожающих разгадывать кроссворды.
– И все же для меня остается загадкой ваш совет полностью довериться одному из таких беспринципных реалистов. Я не вижу истины в ваших словах, сэнсэй.
– Истина – хитросплетение следов на снегу, – промолвил Хасуда.
Прощальные слова Хасуды, сказанные им на перроне вокзала Синдзуку, противоречили, однако, его совету быть благоразумным.
– Жить так, как мы живем, недопустимо. Отдай императору все свои семь жизней!
Он сказал это с сердитым видом, но на глазах у него блестели слезы, а руки, в которых он протягивал мне «Хагакурэ», дрожали.
Сумел ли я объяснить свой реализм? Сумел ли показать, как понимал реализм в тех обстоятельствах, которые теперь кажутся непонятными?
Рано утром 16 февраля в день моего отъезда в Сикату в мою комнату вошла растрепанная, обезумевшая от горя мать. Увидев, что я получил акагами, она впала в истерику. Сидзуэ держала в руках двое часов. Одни, серебряные, были подарены мне императором шесть месяцев назад, в сентябре 1944 года. Другие, карманные, когда-то принадлежали Нацуко.
– Посмотри… – воскликнула она. – Посмотри только! Ты видишь? Они показывают разное время. Это невозможно!
Она долго выкрикивала слово «невозможно», не обращая внимания на просьбы отца успокоиться. Даже Азуса выглядел сегодня необычно расстроенным и угрюмым.
Сидзуэ упала на колени перед образом Будды, стоявшим в нише нашего домашнего алтаря, и застыла в трансе, словно скорбящая мать с пронзенным сердцем и поднятыми в безмолвной мольбе руками. Я похолодел, к горлу подкатил комок. Но за этими ощущениями скрывались облегчение и радостное возбуждение. Мать понимала, что я ускользаю от нее, и потому сходила с ума от отчаяния.
«Наконец-то я спасся от женщин», – мелькнула у меня мысль. Я как будто присутствовал на собственных похоронах. Безутешное горе матери свидетельствовало о том, что смерть моя неизбежна. И оттого я испытывал чувство удовлетворения и одновременно тревоги.
Я и отец сели в поезд, следовавший в префектуру Кансаи, находившуюся в трехстах милях от Токио. Азуса нашел два свободных места у окна, стекло которого было разбито. В щели и пробоины дул холодный февральский ветер. Я был простужен и предложил отцу пересесть, но он не хотел даже слышать об этом.
– В чем дело? – недовольным тоном спросил Азуса. – Если тебе холодно, укутай горло шарфом. Мужчина, призванный на службу в армию Его величества, должен быть стойким и мужественным.
За час я так замерз, что меня начала бить сильная дрожь. Я чувствовал, что у меня поднялась температура, все тело ломило. Находясь в столь плачевном состоянии, я с трудом поддерживал разговор с отцом.
– Ты что, не слышишь меня? – сердито спросил он, когда я в очередной раз не ответил на его вопрос. – Почему твой учитель Хасуда-сан так высоко отзывается о твоих новеллах? Я не могу понять это!
Я не поверил собственным ушам и изумленно взглянул на отца. Может быть, у меня уже начался бред? Но насмешливая улыбка, игравшая на губах Азусы, свидетельствовала о том, что я не ослышался.
– Ты разговаривал с Хасудой-сан накануне его отъезда? – недоверчиво спросил я.
– Я счел это своим долгом. Лейтенант Хасуда пригласил меня к себе, чтобы поговорить.
Я решил, что теперь могу открыто выразить свои чувства.
– Невероятно! Ты готов пойти на все что угодно, чтобы помешать моей литературной карьере!
– И это сыновняя благодарность за заботу? – смеясь, спросил Азуса. – Скажи мне, обращался ли ты в прошлом году к правительству с просьбой выдать бумагу на издание твоей книги? Впрочем, ничего не говори. Я знаю, что обращался и получил согласие. Неужели ты думаешь, что бывают чудеса и правительство удовлетворило твою просьбу случайно? Я все еще пользуюсь кое-каким влиянием в министерствах, хотя мой сын и моя дорогая жена считают меня никчемным человеком. Неужели вы думаете, я не знаю, что ты теперь у нас знаменитость, что тебя зовут Юкио Мисима? Как я мог оставаться в неведении, когда все коллеги поздравляют меня с достижениями сына! Замечательная книга, новое имя, необычайный успех в военное время и так далее, и так далее. О да! Однако твой лейтенант Хасуда знает, кому ты обязан тем, что тебе выделили бумагу для издания твоих произведений!
– Именно потому он и захотел встретиться с тобой?
Азуса пожал плечами.
– Ты хочешь, чтобы я подробно рассказал тебе о нашей беседе?
– В этом нет необходимости.
Я отвернулся к окну, за которым уже сгущались зимние сумерки. Из щелей и пробоин в стекле все так же сильно сквозило.
Когда мы наконец добрались до дома наших друзей в деревне Сиката, я ослабел до такой степени, что едва стоял на ногах. Отец отверг предложение хозяев дома дать мне традиционное жаропонижающее средство, чтобы сбить температуру. Он заявил, что это приведет лишь к отрицательному результату. По его мнению, болеутоляющих таблеток и крепкого сна было вполне достаточно, чтобы вернуть мне здоровье.
Отец, без сомнения, хотел, чтобы я серьезно заболел и военные врачи на следующее утро, когда я должен был явиться в часть, признали меня негодным к строевой службе. Его план не мог осуществиться без помощи с моей стороны. На следующее утро я встал с высокой температурой. Мое лицо покрывала мертвенная бледность, а из груди вырывались резкие хрипы, которые вполне можно было принять за симптомы туберкулеза. Именно такой диагноз поставил молодой неопытный военный врач, осмотревший меня и задавший несколько вопросов, на которые я дал уклончивые ответы. Меня признали негодным к действительной военной службе и в тот же день отправили обратно домой.
Как только бараки военной части остались у нас за спиной, Азуса схватил меня за руку и побежал по глубокому снегу к расположенной у подножия холма деревушке. Мы оставили хитросплетение следов на снегу. Кто смог бы отличить мои следы от следов отца?
Наше возвращение домой к Сидзуэ было триумфом Азусы. Он спас меня от неминуемой смерти, от рокового призыва в императорскую армию. Конечно, об этом никто не говорил прямо. Но на столе сразу же появились рисовые лепешки и саке, что было роскошью в условиях скудного военного времени. Сидзуэ вышла к столу в своем лучшем кимоно, которое редко надевала. В тот вечер Азуса много смеялся, что было довольно необычно. Веселье он проявлял, как правило, только в компании своих друзей, сидя с ними в баре, где подавали суши, или ресторанах. Издаваемые им хрипловатые звуки, должно быть, свидетельствовали о радости по поводу того, что «дело сделано». Слыша неестественный смех отца, я чувствовал себя неловко и избегал смотреть на него, хотя он упорно не сводил с меня глаз. Мой взгляд ничего не выражал, ни ликования, которым светились лица брата и сестры, ни огорчения. Он был пустым. Я словно опустил забрало своего шлема.