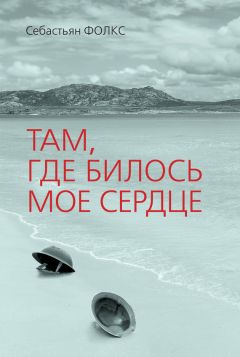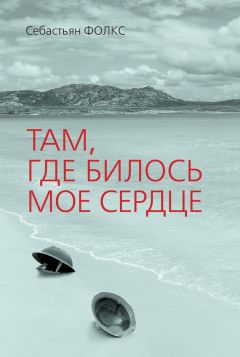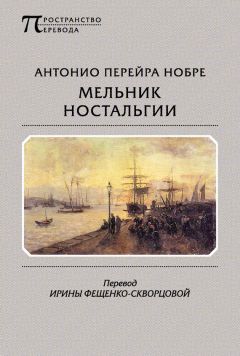Филип Рот - Людское клеймо
Просто ехал. Вот и все, что он делал. Планировал и не планировал. Знал и не знал. Встречные фары приблизились, потом исчезли. Не было столкновения? Ну и ладно. После того как они свернули с дороги, он переходит на правую полосу и едет дальше. Просто едет, и все. Наутро в гараже, готовясь с дорожной бригадой к выезду на место работы, он слышит новость. Другие уже знают.
Столкновения не было, поэтому, хоть ощущение некое и имеется, он, возвращаясь вечером домой и выходя из пикапа, не знает точно, что произошло. Большой был день. Одиннадцатое ноября. День ветеранов. Утром ездил с Луи к Стене, днем вернулся, вечером отправился всех убивать. Так убил или нет? Неизвестно, потому что столкновения не было, но все равно с терапевтической точки зрения ого-го какой день. Главным образом его вторая половина. Теперь-то он по-настоящему спокоен. Теперь Кенни может с ним разговаривать. Бок о бок с Кенни ведут огонь, оба длинными очередями, и тут Гектор, их командир, кричит: "Всё забираем и уматываем!" — и вдруг Кенни убило. Раз — и убило. На какой-то там высотке. Их атакуют, они отходят — и Кенни убило. Быть такого не может. Его дружок, тоже с фермы, только из Миссури, они хотели потом затеять одно на двоих молочное дело, в шесть лет лишился отца, в девять матери, жил потом у дяди, которого любил и про которого все время рассказывал, у зажиточного молочного фермера с большим хозяйством — сто восемьдесят коров, установка на двенадцать аппаратов, чтобы шесть коров доить одновременно, — и у Кенни снесло голову, и нет его больше.
Теперь Лес беседует с Кенни. Доказал, что не забыл друга. Кенни хотел, чтобы он это сделал, и он сделал. Теперь он знает: что он ни совершил — хоть ему и неизвестно точно что, — он совершил ради Кенни. Даже если кого-то убил и посадят, это не важно и не может быть важно, потому что он мертв. Вот он и отдал Кенни последний должок. Расчелся с ним. Теперь все у него с Кенни в порядке.
("Я еду к Стене, имя его там написано, но он молчит. Я жду, жду, жду, смотрю на него, он на меня. Ничего не слышу, ничего не чувствую, и мне стало понятно, что Кенни мной недоволен. Чего-то еще от меня хочет. Чего — я не знал. Но знал, что так он меня не оставит. Вот почему мне голоса не было слышно. Потому что у меня перед Кенни оставался должок. Теперь-то? Теперь все у меня с Кенни в порядке. Он может спокойно спать". — "Ну а вы? Вы и сейчас мертвы?" — "Слушайте, вы, вошь лобковая! Вам говорят, а вы не слышите! Я это сделал, потому что уже умер!")
Утром первое, что он слышит в гараже, — что она и еврей погибли в автомобильной аварии. Все решили, что она по дороге сосала его член и поэтому он потерял управление. Машина съехала с полотна, протаранила ограждение и носом вперед упала с берега на речную отмель. Еврей не справился с управлением.
Нет, он не связывает их смерть с тем, что делал вчера вечером. Вчера вечером он просто ехал по дороге в каком-то особом настроении.
[109] Спрашивает:
— Что случилось? Кто ее убил?
— Еврей. Вез ее на машине и слетел с дороги.
— Наверно, она у него сосала.
— Да, говорят.
И больше ничего. Это тоже никак его не волнует. По-прежнему он ничего не ощущает. Только страдание его при нем. Почему он должен столько страдать из-за того, что с ним произошло, когда она сосет себе у старых евреев? Ему одному страдание, а она теперь вообще взяла и ушла от этого всего.
По крайней мере так ему представляется, когда он пьет утренний кофе в городском гараже.
Когда все встают, чтобы идти по машинам, Лес говорит:
— Похоже, субботними вечерами в том доме уже не будет музыка играть.
Хотя никто не понимает, что именно он имеет в виду, все, как порой бывает, разражаются смехом, и рабочий день начинается.
Если в объявлении будет сказано, что она живет в западном Массачусетсе, кто-нибудь из сослуживцев, получающих "Нью-Йорк ревью оф букс", может ее вычислить — особенно если она опишет свою внешность и сообщит о себе еще что-нибудь. Но если умолчать о своем местожительстве, она, вполне возможно, не получит ни единого отклика от живущих в радиусе ста, двухсот, даже трехсот миль. Просматривая объявления в "Нью-Йорк ревью", она видела, что все женщины, указавшие возраст, намного ее старше — кто на пятнадцать лет, а кто и на тридцать, — и поэтому как она может написать, сколько ей лет на самом деле, как она может верно себя изобразить, не возбудив подозрений? Что-то наверняка с ней не так, что-то важное она скрыла: с какой стати такая молодая и привлекательная, столь многого уже достигшая особа будет искать себе мужчину с помощью объявления в разделе знакомств? Если охарактеризовать себя как "страстную", похотливые субъекты поймут это как рассчитанную провокацию, сочтут ее по меньшей мере сластолюбивой, и в ее абонентский ящик в "Нью-Йорк ревью оф букс" посыплются письма от таких мужчин, с какими она не может иметь ничего общего. Но если изобразить себя синим чулком, изобразить такой, для которой секс значит намного меньше, чем преподавательская или научная деятельность, можно привлечь лишь нечто слишком застенчивое и пресное для женщины, способной, как она, быть очень даже темпераментной с заслуживающим того партнером. Если написать "миловидная", она приобщит себя к некой расплывчато-широкой категории женщин, но если напрямик назваться "красивой", если не убояться правды и употребить слово, которое не казалось преувеличением никому из ее возлюбленных, называвших ее eblouissante (например: "Eblouissante! Tu as un visage de chat"{47}), или же если ради точности описания, состоящего из каких-нибудь трех десятков слов, указать на подмеченное старшими сходство с Лесли Карон{48}, о котором ее отец любил порассуждать, то никто, кроме явного мегаломана, не отважится к ней приблизиться или не примет ее всерьез как интеллектуальную личность. Если написать: "Прошу сопро[110] водить письмо фотоснимком" или попросту: "Приложите фото", может создаться неверное впечатление, что она ценит привлекательную внешность превыше ума, эрудиции и культуры, и к тому же снимки, которые она тогда получит, могут быть подретушированными, старыми или вообще поддельными. Упоминание о фотографии может даже отпугнуть именно тех мужчин, на чье внимание она надеялась. Но если не потребовать фото, может получиться так, что она отправится в Бостон, в Нью-Йорк, а то и дальше, чтобы оказаться за ресторанным столиком с кем-то совершенно неподходящим, даже отталкивающим. Причем отталкивающим не обязательно из-за одной внешности. А вдруг он лжец? Или шарлатан? Или психопат? А вдруг у него СПИД? А вдруг он жестокий человек, или порочный, или женатый, или нездоровый? Назовешь ему свое имя, место работы — и он станет приезжать, шпионить, навязываться. Но ведь нельзя же при первой встрече укрыться за вымышленным именем. Имея в виду подлинные, пылкие любовные отношения, а в будущем — брак и семью, разве может честный, откровенный человек начать со лжи о своем имени или о чем-то столь же существенном? А как быть с расой? Великодушно написать: "Раса значения не имеет"? Но она имеет значение. Хорошо бы не имела, не должна бы иметь и вполне могла бы не иметь, если бы не парижское фиаско в семнадцатилетнем возрасте, убедившее ее, что мужчина небелой расы — партнер непостижимый и потому неприемлемый.
Она была юна и предприимчива, она не хотела быть осмотрительной, а он был из Браззавиля, из хорошей семьи, сын члена Верховного суда — так, по крайней мере, он ей сказал. Студент, во Францию приехал на год по обмену. Звали его Доминик, и она подумала было, что у них духовное сродство, что их объединяет любовь к литературе. Познакомились на одной из лекций Милана Кундеры. Он с ней заговорил, и они вышли вместе, все еще под впечатлением от рассуждений Кундеры о "Госпоже Бовари", оба, как восторженно подумала Дельфина, больные "кундеризмом". Кундера был узаконен в их глазах своим статусом опального чешского писателя, пострадавшего за великое историческое дело освобождения Чехословакии. Игривость Кундеры вовсе не казалась им легковесной. Они были без ума от его "Книги смеха и забвения". Чем-то он завоевал их доверие. Восточноевропейскостью. Не знающим покоя интеллектуализмом. Тем, что все было для него как бы трудным. Обоих пленила скромность Кундеры — ничего общего с повадками суперзвезды, — и обоим пришелся по душе его этический кодекс мысли и страдания. Все эти интеллектуальные невзгоды. И потом внешность. На Дельфину произвел сильное впечатление его вид поэта-боксера, наружный знак жестких внутренних противостояний и коллизий.
Все, что было у них с Домиником после знакомства на лекции Кундеры, было чисто плотским переживанием — чем-то для нее совершенно новым. Имеющим отношение только к телу. Просто она очень много всего связала с лекцией Кундеры и ошибочно перенесла эту связь на Доминика, да и вообще все произошло у них слишком быстро. Тело, ничего кроме тела. Доминик не понимал, что ей нужен не только секс. Она хотела большего, чем быть куском мяса на вертеле, который поворачивают и чем-то поливают. А он делал именно это и говорил про это именно такими словами. Прочее, включая литературу, на самом деле не интересовало его вовсе. Расслабься и замолчи — вот и все, что ему было от нее нужно, и она почему-то не могла из этого высвободиться, а потом на[111]ступил тот ужасный вечер, когда она пришла к нему и увидела, что он ждет ее не один, а с приятелем. Нет, это не предубеждение с ее стороны, просто она понимает, что в человеке своей расы так бы не ошиблась. Это была грубейшая из ее оплошностей, и она долго не могла оправиться. Излечил ее только роман с профессором, подарившим ей кольцо. Секс — да, конечно, восхитительный секс, но и метафизика тоже. Секс плюс метафизика с человеком серьезным и несуетным. Похожим на Кундеру. Это ей нужно и теперь.