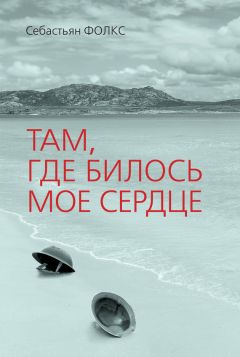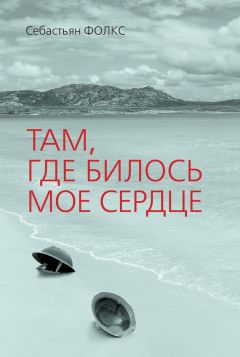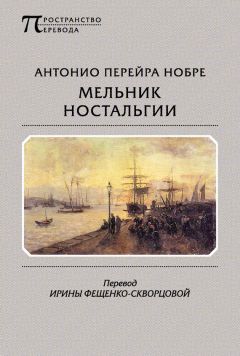Филип Рот - Людское клеймо
Из-за того, что он в первый раз, другие толкутся рядом. Быстро по одному отходят отдать дань погибшим товарищам, но остальные постоянно дежурят около него и следят, а когда тот возвращается, он обязательно подходит к Лесу и обнимает его. Всем им кажется, что сейчас они ближе друг к другу, чем когда-либо, и, поскольку у Леса как раз такой оглушенный вид, как надо, всем им кажется, будто он переживает именно то, ради чего его привезли. Им и невдомек, что, когда он поднимает взгляд на какой-нибудь из трех приспущенных американских флагов или на черный флаг военнопленных и пропавших без вести, он думает не про Кенни и даже не про День ветеранов — он думает, в Питсфилде потому все флаги приспущены, что смерть Леса Фарли — наконец-то установленный факт. Официально подтверждено: мертв в общем и целом, не только душой. Другим он об этом не говорит. Чего ради? Правда есть правда, и он ее знает. А Луи ему шепчет: "Я тобой горжусь. Знал, что выдержишь. Знал, что так оно и будет". А Свифт ему: "Если тебе захочется об этом поговорить..."
Покой, который на него снизошел, они все ошибочно принимают за некое терапевтическое достижение. "Стена-целительница" — вот что написано на плакате перед отелем, и они дружно думают, что так оно и есть. Постояв у имени Кенни, они ходят с Лесом взад-вперед вдоль всей Стены. Повсюду люди ищут имена, и приятели дают Лестеру время воспринять все это как следует, понять хорошенько, где он находится и что делает. "На эту стену не лазают, радость моя", — спокойно говорит женщина, отводя назад мальчика, который хотел заглянуть за Стену у края, где она пониже. "Как фамилия? Какая у Стива фамилия?" — спрашивает жену пожилой мужчина у одной из панелей, внимательно отсчитывая надписи с помощью пальца. "Вот, — слышат они женский голос, обращенный к малышу, едва умеющему ходить; мать показывает пальцем на одно из имен. — Вот, родной мой. Это дядя Джонни". Она крестится. "Ты уверен, что двадцать восьмая строка?" — спрашивает женщина мужа. "Уверен". — "Должен быть здесь. Панель четвертая, строка двадцать восьмая. Я нашла его в Вашингтоне". — "Что-то не вижу. Опять придется считать". "Это мой двоюродный брат, — объясняет другая. — Стал там открывать бутылку кока-колы, а она взорвалась. Мина-ловушка. Ему девятнадцать было. В своем расположении. Упокой, Господи, его душу". Ветеран в кепке Американского легиона, стоя перед одной из панелей на коленях, помогает двум негритянкам, одетым в лучшие свои воскресные платья. "Как фамилия?" — спрашивает он у младшей. "Бейтс. Имя — Джеймс". — "Вот он", — показывает ветеран. "Вот он, мама", — говорит младшая.
[106] Из-за того, что Стена вдвое меньше вашингтонской, многим приходится искать имена, стоя на коленях, и пожилым это нелегко. Повсюду цветы, завернутые в целлофан. На клочке бумаги, прикрепленном к Стене клейкой лентой, от руки написаны стихи. Луи наклоняется, читает: "Яркая звезда светит нам всегда..." У некоторых от слез покраснели глаза. Встречаются люди в черных ветеранских кепках, как у Луи, у некоторых к этим кепкам приколоты ленты кампаний. Упитанный мальчик лет десяти капризно повернулся к Стене спиной. "Не буду читать", — говорит он женщине. Сильно растатуированный мужчина в майке с эмблемой Первой пехотной дивизии обхватил себя руками и ходит как во сне, думая тяжелые думы. Луи останавливается и обнимает его. Все по очереди его обнимают. Даже Лесу пришлось. "Здесь двое моих школьных друзей, погибли в течение двух суток, — говорит кто-то поблизости. — Дома по ним справляли одни поминки. В Кингстонской средней школе это был траурный день". "Он первым из нас приехал во Вьетнам, — произносит другой голос, — и один не вернулся. Знаешь, что бы он, наверно, захотел здесь увидеть, под своим именем на этой Стене? То самое, о чем мечтал во Вьетнаме. Бутылку "Джека Дэниелса", пару приличных ботинок и волосы с женского лобка, запеченные в шоколадном пирожном".
Дальше — группа из четырех мужчин, стоят разговаривают. Лес, когда слышит, о чем, останавливается, и остальные тоже. Все четверо заметно седые, у одного из-под ветеранской кепки свисает седоватый конский хвостик.
— В механизированных там?
— Ага. Топаешь, топаешь, но все-таки знаешь, что рано или поздно вернешься к своей машине.
— Мы протопали жуть сколько. Все Центральное нагорье вдоль и поперек. Все эти проклятые горы.
— В механизированных еще такая штука, что в тыл тебя фиг отправят. Из одиннадцати месяцев я только в самом начале был в базовом лагере, и еще один раз послали на отдых. И все.
— Они по звуку гусениц знали, что мы едем, и знали, когда мы будем на месте, так что ракета нас уже ждала. У них была масса времени ее надраить и написать на ней твое имя.
— Вдруг Луи встревает в этот разговор четверки незнакомцев.
— Мы здесь, — говорит он. — Мы здесь, правильно? Мы все здесь. Дайте я запишу ваши фамилии. Фамилии и адреса.
Он вынимает из заднего кармана блокнот и, опираясь на палку, записывает все данные, чтобы потом отправить им информационный бюллетень, который они с Тесси дважды в год печатают и рассылают за свой счет.
Потом они идут мимо пустых стульев. По пути к Стене они их не заметили — настолько были заняты тем, чтобы благополучно довести до нее Леса. На краю площадки для парковки стоят старые металлические серо-коричневые стулья, извлеченные, вероятно, из подвала какой-нибудь церкви и поставленные слегка изогнутыми рядами, как на выпускном акте или на церемонии награждения: в трех рядах по десяти, в одном одиннадцать. Видно было, что их устанавливали очень тщательно. К спинке каждого стула прикреплена белая карточка с именем и фамилией. Этакое каре из пустых стульев, и, чтобы никто на них не садился, вдоль каждой из четырех сторон — провисающее ограждение из переплетенных лент, черной и пурпурной.
[107] Здесь же висит большой венок из гвоздик, и когда Луи, не пропускающий ничего, останавливается и считает цветы, их оказывается, как он и предполагал, сорок одна штука.
— Что это? — спрашивает Свифт.
— Это для тех из Питсфилда, кто погиб. Их пустые стулья, — объясняет Луи.
— Гадство, — говорит Свифт. — Сволочная бойня. Полез драться, так уж дерись до победы. Гадство и погань.
Но день для них еще не кончен. На тротуаре перед отелем "Рамада-инн" — какой-то долговязый в очках и в слишком теплом для такого дня пальто. С ним непорядок: орет на проходящих, тычет в них пальцем, брызжет слюной, и к нему из машины уже бегут полицейские, чтобы попытаться его урезонить, пока он кого-нибудь не ударил или не вытащил из-под пальто пистолет. В руке бутылка виски — кажется, больше ничего нет. Кажется.
— Все глядите на меня! — кричит он. — Я дерьмо, и кто на меня смотрит, тот знает, что я дерьмо! Никсон! Никсон! Вот кто меня таким сделал! Вот что меня таким сделало! Никсон и Вьетнам — он меня туда послал!
Серьезные-серьезные они садятся в фургончик, каждый со своим грузом воспоминаний, но что облегчает их ношу — это вид и поведение Леса, который, в отличие от того уличного крикуна, необычайно спокоен. Таким они никогда его не видели. Хотя они не очень-то склонны делиться трансцендентными переживаниями, присутствие Леса рождает в них чувства именно из этой сферы. Всю обратную дорогу каждый из них, кроме Леса, в наибольшей доступной ему мере испытывает таинственное ощущение причастности к жизни, к ее потоку.
Он выглядел спокойным, но это был камуфляж. Он решился. Орудием станет его пикап. Кончить всех, включая себя. У реки, где она поворачивает и дорога вместе с ней, лоб в лоб, по их полосе.
Он решился. Терять-то нечего, а приобретается все. Это не вопрос "если" — если то-то случится, или то-то увижу, или то-то подумаю, тогда сделаю, а если нет, то нет. Он решился уже так, что больше не думает. Он смертник, и все внутри этому под стать. Никаких слов. Никаких мыслей. Только видеть, слышать, ощущать на вкус, обонять — только злоба, взвинченность и отрешенность. Это уже не Вьетнам, а дальше.
(Год спустя, когда его опять насильно засунули в нортгемптонскую ве-теранку, он пытается перевести для психолога на английский это чистое ощущение: ты нечто и в то же время ничто. Конфиденциально, впрочем. Она врач. Медицинская этика. Строго между ними. "О чем вы думали?" — "Не думал". — "О чем-нибудь должны были думать". — "Ни о чем". — "Когда сели в пикап?" — "Когда стемнело". — "После ужина?" — "Не ужинал". — "Когда поехали, как вы считали — зачем вы едете?" — "Я знал зачем". — "Вы знали, куда едете?" — "Прикончить его". — "Кого?" — "Еврея. Еврея-профессора". — "Почему вы собирались это сделать?" — "Хотел прикончить его". — "Потому что так было надо?" — "Потому что так было надо". — "А почему так было надо?" — "Из-за Кенни". — "Вы собирались его убить". — "Точно. И его, и ее, и себя". — "Планировали, значит". — "Не планировал". — "Вы знали, что делаете". — "Да". — "Но не планировали". — "Нет". — "Вы думали, что опять во Вьетнаме?" — "Не во Вьетнаме". — "Это у вас был возврат в прошлое?" — "Нет, не возврат". — "Вы думали, что вы в джунглях?" — "Не в джунглях". — "Вы рассчитывали, что [108]почувствуете себя лучше?" — "Не рассчитывал". — "Вы думали о детях? Это была расплата?" — "Не расплата". — "Вы уверены?" — "Не расплата". — "Вы сказали, что эта женщина убила ваших детей. Может быть, вы ей мстили?" — "Не мстил". — "Подавлены были?" — "Не был". — "Поехали убивать двоих людей и себя и при этом не чувствовали злости?" — "Нет, злости уже не было". — "Вы сели в пикап, знали, где они будут, и поехали им навстречу по той же полосе. И теперь хотите мне сказать, что не пытались их убить?" — "Я их не убивал". — "А кто?" — "Они сами себя".)