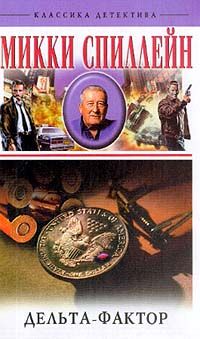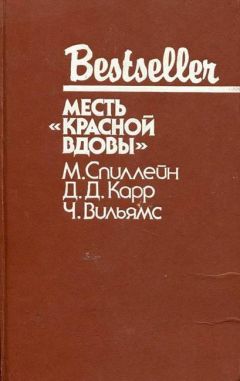Большой куш - Лорченков Владимир Владимирович
– И не только, – голосом Джеймса Бонда говорит нахальный козел!
Я снова слушаю молчание. Невыносимо. Шорох, стук. Возятся. Кажется, Микки ее лапает. Вот так.
– Ты меня лапаешь, – капризно и довольно говорит Белоснежка.
– Ты классная девчонка, – сдавленным голосом гнусит Микки, – давай гулять вместе. Ну, в смысле встречаться. Я буду твой пацан, а ты моя девчонка.
– Так сра-азу? – польщено тянет она.
– Почему нет, ты же классная девчонка, я буду твой пацан, а ты… – потеряв остатки разума, долдонит счастливый от близости Снежкиных сисек Микки.
Я кусаю кулак, чтобы не заорать, не разрыдаться. Не поднять лодку и не наброситься на Микки. Эта девушка моя, моя, моя! Понимаешь ты, урод. Плевать, что она тупая. Плевать! Духовная близость, родство – да засуньте это дерьмо себе в задницу, откуда оно и выползло! Секс. Вот стержень отношений мужчины и женщины. У-у-у-у. Отдай ее мне! Я близок к тому, чтобы разрыдаться.
– Какая у тебя мягкая и красивая грудь, – шепчет Микки.
– Как у тебя там все… – говорит он еще спустя вечность.
– Аа-ах, – тонко говорит она, и я понимаю, что дела мои плохи, сейчас все оно и случится.
Ну и хер с вами, – решаю я в отчаянии. Раз уж оказался таким идиотом, так хоть какую-то выгоду получу. Расстегиваюсь и, прислушиваясь, начинаю дрочить. Ну да, а что мне еще остается?!
– Послушай, почему бы нам не… – говорит Микки совсем уж гнусным голосом, ему сейчас не до закоса под Бонда.
– Ой, я боюсь, – говорит Белоснежка. – Я еще никогда не… Нет, не здесь. Ой. Нет. По-жалу…
Шмяк! Это он ее так к лодке, что ли?!
– Вот видишь, мы упали, – шепчет Белоснежка.
– Ну да, – констатирует он шепотом этот удивительный факт.
– Я не хочу так, – трезвеет на глазах, в смысле, по голосу, Белоснежка.
– Сейчас-сейчас, – бормочет он. – Мы на лодке не уляжемся, – говорит он.
Еще бы, думаю я и, стараясь не шуметь, застегиваю молнию. Лодка-то не плоскодонная! У нее дно овальное, как ни ляжешь – упадешь! Ха-ха! У-р-ра!
– Хотя… Придумал! – пыхтит Микки. – Я щас переверну лодку!
– Ну, хватит, – дуется она. – Не сегодня уже…
– Сейчас-сейчас, – он явно одурел уже, ни хрена не врубается в ситуацию.
И вдруг… щель света в лодке увеличивается. Микки начинает переворачивать. Твою мать! Я растопыриваю руки и ноги и упираюсь ими в края бортов. Прямо Буратино в кувшине, куда Карабас бросал кости.
– Эххх, – кряхтит Микки.
– Ну хватит, – решительно говорит Белоснежка. – Лодка слишком тяжелая.
– Последний, – кряхтит он, – рааааззсссс…
И… едва не переворачивает! Лишь благодаря тому, что я набрал в последний момент полные легкие, его попытка заканчивается неудачей.
Я весь в поту. Боже. Что если бы он меня здесь нашел. Гребаный извращенец. Добавьте этот титул в копилку, пожалуйста. Там уже лежат «врун», «лузер», «несостоявшееся ничтожество». Будет еще и «половой извращенец». К счастью, Микки бросает это дело и они с Белоснежкой уходят. Вроде бы.
Я выползаю из-под лодки спустя час.
6
– Послушай, что это вы за драку со Снуппи устроили? – хмурит брови Матушка Енотиха, и я впервые оглядываю ее внимательно.
Матушка Енотиха оказывается девицей лет тридцати-тридцати двух. Я довольно точно определяю возраст по малозначительным, казалось бы, деталям. На первый взгляд ей можно дать двадцать пять. Лицо у нее свежее и молодое, но я делаю скидку на то, что Матушка Енотиха худощавая, а худощавые всегда выглядят моложе. Это раз. У нее на шее морщина, и явно старая, а не из тех, что появляются от того, что ты неудачно склонил голову. Это два. Наконец, она чересчур умна для того, чтобы быть слишком молодой.
– Изучаешь? – спокойно спрашивает она, даже не поглядев в мою сторону.
– Ну да, – виновато говорю я, – в костюмах-то ничего не видно, и не понимаешь даже, с кем имеешь дело.
– Встать? – так же спокойно спрашивает она.
– М-н-нет, – смущенно мычу я и отворачиваюсь.
Но в окно вижу, что фигура у Матушки Енотихи что надо. Конечно, насколько я могу судить. Ведь она в одежде.
– Это у вас так принято? – спрашивает она. – Разглядывать новичков с ног до головы?
– Нет, – краснею я. – Извини.
– Да ладно, – говорит она. – Ты же мужчина. Вот деньги. Собрала шестьсот. Двести тебе, двести мне, двести Снуппи. Ему я уже отдала. Лучше будет, если ты не станешь об этом распространяться, братец Енот. Директор нас за левые доходы по голове не погладит.
– Я буду нем как могила, – торжественно клянусь я.
– Достаточно будет, если ты просто пообещаешь не трепаться, – морщится она, и я понимаю, что ее русые волосы не крашеные.
– Обещаю не трепаться, – говорю я.
– Ты сказал это таким тоном, все равно что «я буду нем как могила», – усмехается она и тянет мне руку. – Будем знакомиться? Мы ж, как еноты, муж и жена. Елена.
– Владимир, – говорю я, церемонно пожав лапку Матушки Енотихи. – Очень приятно.
– Где у тебя пепельница? – спрашивает она и закуривает, не спросив разрешения.
– Ее здесь нет, мать не терпит дыма, так что…
– Господи, ты и правда такой рохля, как мне рассказывали? – спрашивает она, улыбаясь.
– Знаешь что, – говорю я. – Заткнись и уматывай отсюда, если что-то не нравится.
– Значит, и правда такой, – смеется она.
– В общем, да, – признаюсь я.
Она сбрасывает пепел за подоконник и снова спрашивает:
– Чего это вы подрались? Мне в принципе все равно, но ты скажи, чтоб я знала, как вас оживлять, мальчики. Это доходное дело, когда вы оживляетесь.
– Да так, – нехотя рассказываю я, – по мелочи. Я выменял ботинки Снуппи на рецепт средства от геморроя. Рецепт я выдумал и почему-то сказал «бузина». Ну, беднягу и пронесло от этого.
– Н-да, – говорит она задумчиво, ничуть не развеселившись, и поворачивается ко мне в профиль.
– Мы со Снуппи друзья, – оправдываюсь я.
– Снуппи ни с кем не друг, – выносит она вердикт. – Он для этого слишком старый и слишком умный.
– Ты так много всего заметила за неделю работы… – иронизирую я.
– Конечно, – соглашается она, и моя ирония летит куда-то с пеплом ее сигареты. – Первым делом на новом месте надо оглядеться.
– Где ты работала раньше?
– В парикмахерской.
Я делаю еще чай, а она рассказывает. Работенка, по ее словам, тоже еще та. День-деньской красишь ногти, полируешь их, потом смываешь лак ацетоном и начинаешь красить по новой. Время от времени, но не очень часто, потому что хозяева жадничают и нанимают чересчур много девочек, которым платят очень мало, приходится стричь клиента. Ну, обкорнаешь его, получишь свое и немного чаевых, если повезет, и снова к столику. Красить-лакировать-маникюрить.
– От такой дерьмовой работенки кто хочешь с ума сойдет, – говорит она, кривя капризную красивую губу, нижняя еще полнее, но верхняя очерчена так красиво и четко, как будто скальпелем провели, причем губы-то у нее не накрашены, требование администрации парка («здесь же дети, а не публичный дом»).
– Кто хочешь, – выдыхает она дым и наливает себе еще чаю. – Под вечер сметаешь все волосы, которые за день скапливаются на полу парикмахерской, в угол. И на тебя глядит огромный волосяной ком. Девочки говорят, что когда парикмахер умирает и делают вскрытие, то в легких всегда находят такой же ком, ну, разве что чуть поменьше. Ты же вдыхаешь эти волосы, понимаешь? И они все оседают в твоих легких. Оседают и оседают. Конечно, некоторые девочки устраивались хорошо. Повезет постричь молодого симпатичного мужика, который приехал на своей машине – а ведь парковка прямо напротив входа была, – прижмешься к нему пару раз, скажешь «ой», извинишься, снова прижмешься, подышишь в ухо – это очень важно, подышать в ухо, – и уже через день он трясет тебя как грушу на кровати в отеле. Ну, если уж совсем повезет, он трахает тебя у себя дома, и это значит, что он не женат и вообще не занят. Месяц-другой он приезжает за тобой на машине, и ты куришь длинные дорогие сигареты. Если уж совсем-совсем повезет – но о таких случаях больше говорят, нежели они происходят, – в один прекрасный день ты садишься в эту машину и едешь туда, где он тебя трахнул, чтобы остаться навсегда. Но это, кажется, сказки.