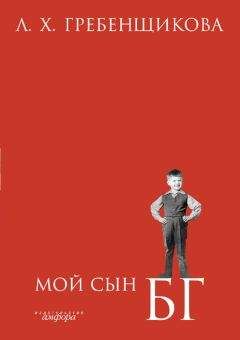Бузина, или Сто рассказов про деревню - Гребенщикова Дарья Олеговна
– Алтайка ты мой! А я думал всё! Приговорил тебя, кобеляка ты несоблазная 7! Прохартался 8, козлинушка! – Пашка сполз на пол и обнял Алтайку. Алтайка лизнул его в лицо, дыша чесноком. На шее у Алтайки красовалась верёвка, аккуратно скушенная сильными молодыми зубами. Пёс был похож на одетого в стиле grunge бродягу. Леньчик тоже сполз под стол, и так они сидели втроем, радуясь событию. Зря ты на яго деньги шумаркаешь, 9 – Леньчик уснул и проснулся одновременно, – ты его приспособь к охране границы! Можно и столб в полосочку покрасить. Я еще в совхозе краски две банки обреудил 10, а мне на что? Это и послужило к строительству дома для Алтайки. Разобрав сараюшку у дачников, Леньчик с Пашкой сколотили Алтайке царские хоромы. Для простоты решения конуру прибивали сразу к Пашкиной избе, чтобы не тратить гвозди. Иди, владей! – сказал Пашка Алтайке, – сплошной дастархан. – Откуда пришло в голову это слово, Пашка не помнил, но мнилось ему, что это связано с ханом, а значит, с золотом. Алтайка, уважая Пашку, втиснулся внутрь, лег на подстеленную Пашкой тюлевую занавеску и прикрыл глаза. Всю кыршину 11 ты мне отлежал заботами о себе, – и Пашка похлопал себя по шее. – Ни шагу в избу! Теперь служи, солдат! – и Пашка, поддав Леньчику коленом под зад, отправился в избу – обмывать стройку. Утром Пашка проснулся от запаха рыбы. На кровати, придвигая мощным телом Пашку к бревенчатой стене, спал, разметавшись, кудлатый Алтайка. На груди Алтайки покоилась жестянка – из-под рижских шпрот.
К ночи ветер поменял направление, и мягкий и душный южный уступил, стих, да и исчез вовсе. Задул наш, привычный, северо-западный, гневный, сырой, погнал впереди себя дождевые облака, табачными дымками разметал их по голубеющему еще вчера небу, и стало пасмурно и тоскливо. Зарядил дождь, от мелкой мороси усиливающийся до ливня, показывая всё, на что способен – как Петергофские фонтаны да шутихи! Дым из труб – вниз, лужи в грязной ряби, мокрые, серые избы да безлюдье, да непогода надолго… а дома – сентябрьские мухи, ковром по окнам, да мышиный писк за стеной, да крысиная пробежка по картошке в погребе… время печек, горячего чая, да шерстяных носок, серых, овечьей шерсти, с цветной продержкой из распущенных старых кофт…
Смотрины
– Наташка! – мать кричит из окна, и от её крика бросаются врассыпную куры, – иди, бельё сыми, видишь, туча? Тазы возьми с бани! Шевелись, тетёха, все проспишь!
Наташа доливает воды в выварку, в которой булькает, издавая запах хлорки постельное, и бежит к веревкам в глубине сада. Белье пересохло, но все равно набралось запаха скошенной травы – днём отец обкашивал участок, и теперь трава, подвядшая, сладко и дурманяще пахнет. Бельё аж синеет, да еще подкрахмалено – это у них в заводе от бабки, у той – всё хрусткое, кипенно-белое, занавесочки, подзоры, салфеточки. Фу, мещанство, перед людьми неловко, – думает Наташа, но матери не перечит. С бельём – домой, на веранду. В избе всё вверх дном. Мать домывает полы, и доски, крашенные рыжим суриком, дымятся от горячей воды с щелоком. Окна перемыли накануне, терли мелом, газетами, оставляющими тяжелый свинцовый налет на руках, обметали по углам паутину, отец хотел еще и печку наново побелить, да времени не хватило. Все тяжелые ватные матрасы были вынесены вон, в сараи, и там развешаны на перекладинах, подушки выбиты, половички домотканые, сделанные еще бабушкиными добрыми руками, висели на слегах, за огородами. Младшие братья носились бестолково, и только мешались под ногами, строили рожи, и кричали Наташке «тили-тили-тесто», а она, ощущая странную тяжесть в ногах, волновалась до того, что не в силах была отвесить им подзатыльник, и только махала на них полотенцем. К вечеру была стоплена баня, отец натаскал воды столько, что молочные бидоны пришлось занимать у соседей. Братьев отправили в рощу за березой на веники, и те, весело гикая, притащили целый воз, как на Троицу. Стол накрыли во дворе, под яблоней, мать не пожалела новой, в алых маках, клеёнки, на которую сейчас расставляла тарелки, стаканы да рюмки прессованного хрусталя. Братьев заставили загнать кур, чтобы не загваздали двор, а корову встречать отправили тётку-соседку.
– Наташка, время! – мать глянула на ходики, – с района автобус в восемь двадцать будет, сдурела! Я тебе выгладила там! На стуле висит! Бусы мои возьми, слышь?
– Мам, – отзывалась Наташка, бегая по комнате, – какие бусы, мам? А где кулон мой? Мам?
– Где ложила, там лежит, я в твои вещи когда лезла, не?
– Мам, помада где? – Наташка красила губы тайно, чтобы мать не видела, – но теперь уж можно сознаться.
– Я те дам помаду, я те дам губы-т мазать, – кричит мать, – сдурела, ты что? – мать отпускает бранное словцо, братья заходятся счастливым смехом, и бегают по двору, повторяя за матерью, пока не натыкаются на отцовский кулак.
Слышно, как Наташа стучит пятками, как падает стул, как скрипят рассохшиеся дверки полированного гардероба, и вот уж солнце стало потихоньку садиться за дальний край деревни, как послышалось урчание автобуса, и слышно стало, как открылись двери, как загомонила толпа, и облачко пыли, поднятое рейсовым автобусом, опало в палисадник соседского дома.
– Наташка! – заорали братья, устроившиеся на крыше, – жених идёт!!! Мамка! Наташкин жених идёт!
И вот уже толкнул калитку молодой парень, с букетом поникших цветов в руке и с рюкзаком, врезавшимся брезентовой лямкой в плечо. Постоял, осмотрелся, показал братьям кулак – а ну, слазь, и пошел знакомиться. Вылетела Наташка, красная, сияющая, бросилась ему на шею, и он обнял её, и закружил – радуясь встрече, теплому летнему вечеру и тем ночам, которые можно будет теперь им проводить с Наташкой вместе, на совершенном законном основании.
Курочка Ряба
– Гошечка, голуба ты моя! – баба причитала, утирая неискренние слезы пестрым передником, – Гошечка, ну будь ласочка, ну, миленькай! Вечно за тя буду Богу молить, не?
– Надежда Петровна, ну, что вам? Я готов помочь, но поймите меня правильно! Мой отпуск … – Жора отложил ноутбук с начатой статьей, – что вам? В аптеку? Хлеба? Жуков собрать? Сделаю! А вы уж, будьте добры! Садитесь, и пишите за меня! Сравнительный анализ причин… ну, что еще?
– Гошечка, – баба собрала губы в куриную гузку, – у меня курочка охромела. Бяда, не?
– Так, это, что? Отрубите ей голову? Но чур меня, чур! Я, знаете, не могу! И не просите! Вон, по деревне у вас мужики с какими лицами ходят! Они пусть и убивают. Я, знаете, толстовец, вот.
– Убить не, убить, че ты? У меня все куры рассидевши, а Серая токо и несется. Не, ей надо в город. В ветеринарку, вот. Там Любка соседская, она поможет, а убить, что ты! Я и сама могу, вот. Ты споймай, Серую, хроменькую, и свезем, не?
Меньше всего Жоре хотелось ехать в район, везти курицу, которая будет кудахтать и гадить, после чего в салоне будет вонять куриным пометом и птичьими перьями, но обидеть старую бабку, у которой он шестой год кряду снимал пол-избы, он не мог. Сняв очки в дорогой оправе, Жора включился в пыльную суету курятника, долго и бестолково хлопал руками, поднимая кур с насеста, отбивался от петуха, норовившего клюнуть его в глаз, и, наконец, вытащил на свет заполошную печальную курицу, с красными глазами, молящими о пощаде. Курица неловко ткнула Жору в руку, и села в корзинку, где начала орать и орала до самого города. В ветеринарке никакой Любки не оказалось. Уволивши она, – угрюмо сказала усатая тётка в синем халате, – ищи теперь, где не знаю. Жора хотел предложить бабе дать курице амнистию и выпустить её в лесу, но осекся, видя горестные бабины глаза – красные, как у курицы. Та, впрочем, в городе затихла, подозревая, что ей уготован путь не в печку, а в общепитовский котел. Спрашивали у прохожих, кто может оказать курице помощь, и, наконец, какой-то старичок, просивший милостыню у мясного ряда на рынке, согласился помочь. Пришлось ехать покупать мужичку водку, а курице лейкопластырь, бинт и зачем-то нашатырь. Омморок могет быть, – пояснил старичок, – кура, она нервная в плане душевного расстройства, потому как баба! Хоша и с перьями… Старичка пришлось брать в машину, и Жора понимал, что теперь даже японский освежитель салона «Аромат Фудзи» не забьет чудовищную вонь немытого тела, перегара и плесени. В сарае, приспособленном дедом под амбулаторию, сидели в клетках птицы-подранки, а по верстаку ходили два бесхвостых кота. Дед неожиданно ловко обмял пальцами куриную лапку, крякнул, дал курице под нос нашатыря, отчего та выпучила глаза и закрыла клюв, и быстро и ловко наложил шину. Вона как! – дед стребовал еще «рупь на опохмел» и был возвращен к месту работы. По дороге домой довольная баба рассказывала Жоре, как она была в девушках, как била босыми пятками пол в клубе и провалилась, как Мишка-тракторист хотел на ней жениться, но разворошил трактором угол избы и был бит батей, как мамка увидела пожар и испугалась, отчего брат родился с родимым пятном. Баба все говорила и говорила, похрапывала курица, от которой несло нашатырем, а пыльная дорога виляла то влево, то вправо, и клонился к закату день, и день был – потерян. Когда, разгоняя слепней, Жорина машина въехала на двор, баба, подхватив корзинку с Серушкой, поковыляла к сараю, радостная, что курочка спасена, и поток яиц не иссякнет. Жора, потягиваясь, вылез из машины, раздумывая, что лучше – пиво, или водка, но холодная, и был испуган криком бабы – Гошка! Ирод! Ты каку куру т взял, а? Чорт сляпой! Жора подошел и сморщился – Серушка прогуливалась по двору, заметно припадая на левую лапку. Вторая Серушка, с забинтованной лапкой, грустно ковыляла рядом. Вы бы хоть как-то кур своих пометили, – ему было неловко и жалко себя, – они ж обе серые? Сам ты серай! – баба Надя прижимала к груди хроменькую, – у ей, вишь? хвостик набок маленько, сережка подморожена, клювик сбитай… Ага, – добавил Жора, – и ее петух не любит! Точна! – баба развеселилась, – у ей, глянь, на спине пёрья! А у хроменькай – пёрьев нет, потому как любимая жена! Гош, а после завтрева съездим, не? На автобусе, – отрезал Жора и пошел пить. Водку, понятное дело.