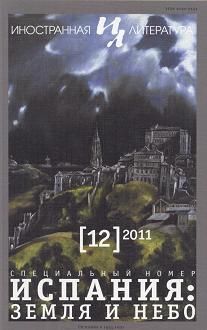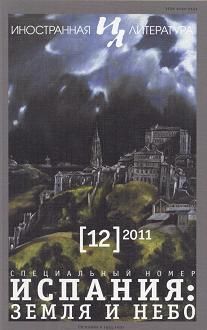Зима в Лиссабоне - Молина Антонио Муньос
Глава IV
По воскресеньям я вставал очень поздно и завтракал пивом — было стыдно в полдень брать в баре кофе с молоком. Воскресным утром в Мадриде разливается обычно мягкий, холодный свет; воздух становится особенно прозрачным, и в нем, будто в вакууме, отчетливо выступают белые острые ребра зданий; шаги и слова звучат гулко, будто в заброшенном городе. Мне нравилось вставать поздно и читать газету в пустом чистом баре, выпивая ровно столько пива, сколько позволяло дождаться обеденного времени в состоянии приятной апатии, когда на все окружающее смотришь, словно с блокнотом и карандашом в руках следишь через прозрачные стенки за жизнью улья. Около половины третьего я аккуратно складывал газету и бросал ее в мусорную корзину — от этого возникало ощущение легкости, с которым я безмятежно отправлялся в ресторан. Это было опрятное старинное заведение с цинковой стойкой и квадратными винными бутылками, где официанты меня уже узнавали, но пока не досаждали доверительным тоном, от которого я сбегал из других подобных мест.
В один из таких воскресных дней, когда я ждал своего заказа за столиком в глубине зала, в ресторан вошел Биральбо под руку с очень привлекательной женщиной — я сразу узнал в ней светловолосую официантку из «Метрополитано». Вид у них был ленивый и улыбчивый, какой бывает у тех, кто только что проснулся вместе. Они подошли к ожидавшим своей очереди у стойки бара людям, и я некоторое время разглядывал эту парочку, прежде чем их окликнуть. Неважно, что волосы у нее, скорее всего, крашеные, подумалось мне. Она, видимо, причесалась сегодня небрежно, едва ли на секунду задержавшись перед зеркалом; на ней была короткая юбка и серые чулки. Биральбо, пока они разговаривали, попивая пиво и куря, то легонько поглаживал ее по спине, то обнимал за талию. Девушка была не очень тщательно причесана, но губы успела накрасить — розовой, даже чуть сиреневатой помадой. Представив себе запачканные этой помадой окурки в пепельнице на ночном столике, я со смесью грусти и зависти подумал, что у меня такой женщины никогда не было, и поднялся, чтобы поздороваться с Биральбо.
Светловолосая официантка — ее звали Моника — быстро перекусила и сразу же собралась уходить, сказав, что у нее дневная смена в «Метрополитано». Прощаясь, она взяла с меня обещание, что мы обязательно еще встретимся, и чмокнула в щеку, почти у самых губ. Мы остались с Биральбо наедине, недоверчиво и застенчиво смотря друг на друга сквозь пар кофе и дым сигарет. Мы знали, о чем думает каждый из нас, и избегали слов — они возвратили бы нас к исходной точке, к воспоминаниям о множестве неправдоподобных ночных встреч, слившихся в памяти в одну или две. Стоило нам остаться наедине, как начинало казаться, что в наших жизнях нет ничего, кроме «Леди Бёрд» и тех далеких ночей в Сан-Себастьяне, и осознание этого сходства, общей принадлежности к утраченному прошлому обрекало нас на околичности и осторожное молчание.
В зале ресторана оставалось совсем немного посетителей, и металлические жалюзи были уже наполовину опущены. Я неожиданно для себя самого заговорил о Малькольме, но это был лишь способ упомянуть Лукрецию, прощупать почву, не называя имени вслух. В ироническом ключе я поведал Биральбо историю о продаже картин и восьмистах долларах, которые я так и не получил. Он огляделся, будто чтобы удостовериться, что Моники нет поблизости, и расхохотался.
— Значит, и тебя обманул старина Малькольм!
— Он меня не обманывал. Я ведь уже тогда знал, что он не заплатит.
— Но тебя это не волновало. В глубине души тебе было все равно, заплатит он или нет. А ему — нет. Он наверняка твои деньги отдал за дорогу в Берлин. Они давно собирались уехать и не могли. И вдруг Малькольм приходит с известием, что он дал на лапу капитану какого-то корабля и их возьмут в трюм. Так что они уехали на твои деньги.
— Тебе это рассказала Лукреция?
Биральбо снова рассмеялся, будто подшутили над ним самим, и глотнул кофе. Нет, Лукреция ему ничего не рассказывала, она ничего не говорила до самого конца, до последнего дня. Они никогда не говорили о повседневном, словно молчание о том, что происходит помимо их встреч, оберегало их лучше, чем изобретаемые ею предлоги для свиданий и запертые двери отелей, где они встречались на полчаса — у нее редко бывало время, чтобы приехать в квартиру Биральбо, — и предстоящие минуты растворялись в первом же объятии. Она взглядывала на часы, одевалась и запудривала розовые пятна на шее какой-то особенной пудрой, которую Биральбо купил по ее просьбе — в магазине, пока он искал нужное средство, на него посматривали с нескрываемым подозрением. Он спускался в лифте на улицу вместе с Лукрецией, чтобы проводить ее и посмотреть, как она машет на прощание рукой в окошко такси.
Он думал о Малькольме, который ждал ее, готовый искать в одежде и волосах запах чужого тела. Биральбо возвращался домой или в номер отеля и падал на кровать, изможденный ревностью и одиночеством. Потом начинал бесцельно бродить туда-сюда, взвалив на себя непосильный труд подстегивать ход времени, заполнять пустоту часов, а иногда и целых дней, отделявших его от следующей встречи с Лукрецией. Перед его глазами стояли неподвижные стрелки часов и что-то темное и глубокое, как опухоль, как тень, перед которой бессилен всякий свет, всякая передышка, — жизнь, которой она жила в эти самые мгновения, ее жизнь с Малькольмом, в доме Малькольма, куда он, Биральбо, однажды тайно проник, не затем, чтобы ощутить недолгую робкую нежность Лукреции, — хотя Малькольма не было в городе, они боялись, что он может вернуться в любой момент, и каждый шорох казался им звуком поворачивающегося в скважине ключа, — а чтобы увидеть картины другой ее жизни, запечатленные с той самой минуты в сознании Биральбо с присущей действительности точностью рентгеновского снимка. Мысли о доме, ни разу не виденном вживую, быть может, не были бы так тяжелы для него, как точное воспоминание, которое жило теперь в его сознании. Помазок и бритвенный станок Малькольма на стеклянной полочке под зеркалом в ванной, его халат из мягкой синей ткани, висевший за дверью в спальне, его войлочные тапки под кроватью, его фотография на ночном столике, рядом с будильником, звон которого он слышал каждое утро одновременно с Лукрецией… Запах его одеколона, рассеянный по всем комнатам и явственно исходивший от полотенец, легкий намек на мужское присутствие, от которого Биральбо становилось не по себе, будто захватчику. Мастерская Малькольма, очень грязная, полная стаканов с кистями, склянок со скипидаром и репродукций картин, давным-давно приколотых к стенам… Вдруг Биральбо, говоривший откинувшись на спинку стула, улыбаясь и роняя сигаретный пепел в чашку с кофе, выпрямился и посмотрел на меня очень пристально: он обнаружил в своей памяти нечто, чего раньше не вспоминал, как бывает, когда найдешь что-нибудь не на привычном месте и от этого внезапно увидишь то, что давно не замечалось.
— Я видел там картины, которые ты ему продал, — сказал он мне. Биральбо до сих пор видел их в свете своего изумления и боялся, что исчезнет точность воспоминания. — На одной — что-то аллегорическое, женщина с завязанными глазами, у нее что-то в руке…
— Бокал. Бокал с крестом.
— Длинные черные волосы, круглое, очень белое лицо с румянцем на щеках.
Я хотел было спросить, не известно ли ему еще что-нибудь о судьбе этих картин, но Биральбо было уже не до меня. Перед его взором что-то возникало с ясностью, в которой прежде память отказывала ему, перед ним открывались залежи чистого времени: образ картины, которую он никогда не старался вспомнить, вернул его в нетронутые забвением часы, проведенные с Лукрецией. Его взгляд постепенно, через доли секунды, как луч света, первоначально выхватывавший из тьмы лишь одно лицо и теперь набирающий силу, чтобы осветить всю комнату, обнаруживал то, что находилось в тот вечер рядом с картиной; Биральбо снова ощущал близость Лукреции, страх, что нагрянет Малькольм, гнетущий свет конца сентября, наполнявший комнаты, по которым они ходили, еще не зная, что стоят на пороге трехлетней разлуки.