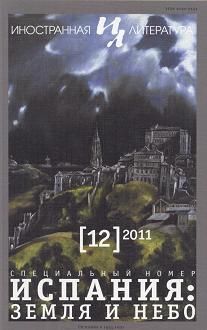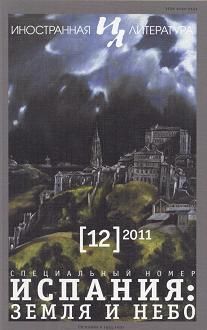Зима в Лиссабоне - Молина Антонио Муньос
Когда Американец закончил пересчитывать деньги, мы выпили за то, что он с подозрительным воодушевлением назвал «успехом нашей сделки». У меня появилось двойное неприятное чувство: будто меня обманывают и будто я в каком-то фильме играю роль, которую мне не потрудились хорошенько объяснить, — но такое со мной часто случается, когда я пью с незнакомыми людьми. Малькольм много говорил и много пил, ругал мои сигареты, давал советы, как приобретать картины и как бросить курить: здесь главное — самообладание, сказал он, широко улыбаясь и отгоняя дым от лица, и написал на салфетке название леденцов, помогающих избавиться от никотиновой зависимости. Бокал Лукреции так и стоял перед ней — высокий и нетронутый. Мне показалось, что она способна оставаться неуязвимой и неизменной, где бы ни находилась, но я отказался от этой мысли, едва заиграл Биральбо. В тот вечер они с Билли Сваном играли вдвоем; отсутствие контрабаса и ударных придавало их музыке, их одиночеству на тесной сцене «Леди Бёрд» ощущение незавершенности и абстрактности, сходство с кубистским рисунком, сделанным простым карандашом. На самом деле, как мне сейчас вспоминается — хотя прошло уже пять лет, — я заметил, что музыка зазвучала только в тот момент, когда Лукреция повернулась к нам спиной, чтобы смотреть в глубь зала, туда, где среди полутьмы и клубов дыма играли два музыканта. Это было едва заметное движение, неуловимое и быстрое, как вспышка молнии, как искра в глазах, как взгляд, перехваченный в зеркале. До того, разгоряченный виски и мыслью о семи сотнях долларов в кармане — в то время всякая сколько-нибудь значительная сумма денег казалась мне бесконечной, позволяющей брать такси без особой надобности и покупать дорогие ликеры, — я пытался завязать разговор с Лукрецией, а Американец подбадривал меня пьяной, благодушной улыбкой. Но едва зазвучала музыка, Лукреция повернулась к нам спиной, как будто мы с Малькольмом перестали существовать, поджала губы, откинула волосы с лица и спрятала длинные ладони между колен. «Моя жена обожает музыку», — сказал Малькольм и плеснул мне еще виски в пустой, безо льда, стакан. Быть может, все было не совсем так. Быть может, когда заиграл Биральбо, Лукреция не перестала смотреть на меня — в этом я не уверен, но, несомненно, в ней сразу же что-то изменилось, и мы с Малькольмом одновременно заметили эту перемену. Что-то происходило: не на сцене, где Биральбо простирал руки над клавишами фортепиано и Билли Сван, еще беззвучно, поднимал трубу с медлительностью жреца, а между ними, между Лукрецией и Малькольмом, за маленьким столиком, где стояли забытые бокалы, в молчании, которое я старался не замечать, как знакомый, оказавшийся рядом в неподходящий момент.
В «Леди Бёрд» было много народу, и все аплодировали; несколько фотографов, стоя на коленях, поминутно слепили вспышками Билли Свана. Флоро Блум — этот счастливый белобрысый толстяк с маленькими голубыми глазками — стоял, опершись на барную стойку всей своей тучной фигурой скандинавского лесника; мы — Лукреция, Малькольм и я — старались (без особого успеха) погрузиться в музыку и единственные во всем заведении не аплодировали. Билли Сван вытер лоб носовым платком и что-то произнес по-английски, завершив реплику неприлично раскатистым хохотом, а затем робко зазвучали новые аплодисменты. Слишком близко поднеся микрофон к губам, Биральбо усталым голосом перевел слова трубача и объявил следующую песню. Малькольм в очередной раз внимательно перечитывал данную мной расписку. Биральбо сквозь дымную толщу расстояния встретился глазами со мной — но искал вовсе не меня. Его взгляд был устремлен к Лукреции, как будто в «Леди Бёрд», кроме нее, никого и не было, как будто они были наедине среди толпы, всеми своими глазами следившей за каждым их движением. Глядя на Лукрецию, Биральбо произнес сначала по-английски, а потом по-испански название песни, которую они с Билли Сваном собирались исполнить. Много позже, уже в Мадриде, я вдруг узнал ее: она была на той пластинке Билли Свана, которую я слушал в одиночестве, недвижно взирая на связку писем, пересекших Европу из конца в конец и преодолевших безразличие времени, чтобы попасть в руки постороннего человека. «Все, в чем есть ты», — объявил Биральбо, и между этими словами и первыми нотами песни повисла короткая пауза, во время которой никто не решился аплодировать. Не только Малькольм, но и я заметил, что улыбка, не тронув губы, заиграла у Лукреции в глазах.
Я не раз видел, что иностранцы часто без малейшего колебания и предупреждения отказываются от проявлений дружбы и подчеркнутой учтивости. Почувствовав на себе взгляд Биральбо — хотя из-за стойки за нами наблюдал и Флоро Блум, — Малькольм сказал, что им с Лукрецией пора идти, и протянул мне руку. Лукреция очень серьезно, еще не поднявшись, что-то сказала мужу по-английски — несколько быстрых слов, исключительно вежливых и холодных. Я наблюдал, как Малькольм поднял свой стакан и поставил его обратно на столик, сжав твердыми, запачканными краской пальцами, будто бы изучая возможность раздавить его. Но ничего такого не сделал. Пока Лукреция говорила с ним, я рассматривал его чуть приплюснутую, как у ящерицы, голову. Лукреция не была раздражена — казалось, она вообще не способна раздражаться. Она смотрела на Малькольма, будто бы полагая, что силы здравого смысла вполне достаточно, чтобы обезоружить его; ее слова были осторожны, а тон мягок, и в нем, казалось, таилась ирония. Когда Малькольм заговорил вновь, его испанский сделался отвратителен. Злость исковеркала произношение, будто напоминая о том, что он чужд этой стране и этому языку, на котором переговариваются только заговорщики да враги. Смотря мимо меня, прямо в глаза Лукреции, он сказал: «Теперь понятно, почему ты хотела прийти сюда». Мое присутствие уже не волновало ни того, ни другую.
Я решил раствориться в дыме и музыке. Малькольм согласился на перемирие. Вынув из заднего кармана брюк пачку купюр, он подошел к стойке и некоторое время разговаривал с Флоро Блумом, кичливо и гневно потрясая зажатыми в кулаке деньгами. Искоса он поглядывал на Лукрецию — она так и не поднялась из-за столика — и на Биральбо, который, по ту сторону фортепиано, был страшно далек от нас. Иногда пианист поднимал глаза — и тогда Лукреция едва заметно тянулась вверх, будто стараясь разглядеть его из-за ограды. Малькольм, глухо стукнув по деревянной стойке, оставил деньги и направился в темную глубь заведения. Тогда Лукреция встала и, не обращая на меня внимания, будто стерев мое присутствие улыбкой, как отмахиваются от дыма, подошла сказать что-то Флоро Блуму. Труба Билли Свана пронзала воздух, как подъятый кинжал. Лукреция жестикулировала перед сонным лицом Флоро, потом в ее руках появились листок бумаги и ручка. Она стала что-то писать, быстро поглядывая то на сцену, то на освещенный красным светом коридор, по которому ушел Малькольм. Потом сложила листок, вытянулась всем телом, пряча его с другой стороны стойки, и вернула Флоро ручку. Когда Малькольм вернулся — он отсутствовал не больше минуты, — Лукреция уже приглашала меня зайти к ним как-нибудь на обед и объясняла, где они живут. Она врала спокойно и страстно, почти с нежностью.
Ни один из них на прощание не подал мне руки. Они исчезли за занавесом «Леди Бёрд», и через секунду раздался треск аплодисментов, будто бы провожая их. Больше я ни разу не видел их вместе. Я так и не получил остальные восемьсот долларов за свои картины и не встречал Малькольма. В некотором смысле я больше не видел и Лукрецию: у той, что я встречал позже, волосы были намного длиннее, сама она была не так спокойна и гораздо бледнее, ее решимость то ли несла на себе отпечаток пережитых испытаний, то ли вовсе иссякла, а во взгляде появились тяжесть и прямота, какие бывают у тех, кто лицом к лицу столкнулся с настоящей тьмой и после этого не остался ни безнаказан, ни чист. Через две недели после нашей встречи в «Леди Бёрд» Малькольм с Лукрецией сели на грузовое судно, направлявшееся в Гамбург. Хозяйка дома, где они жили, сказала мне, что они уехали, не заплатив за три последних месяца. Об их отъезде знал только Сантьяго Биральбо, но и он не видел, как тайно, глубокой ночью уходила в море рыбачья лодка с ними на борту. Лукреция сказала ему, что корабль будет ждать их в открытом море, но не захотела, чтобы он приходил в порт попрощаться с ней даже издали, пообещала, что будет писать ему, и дала листок с адресом в Берлине. Биральбо сунул его в карман и, быть может, пока шел в «Леди Бёрд» — быстрыми шагами, потому что уже было поздно, — вспоминал о другой записке, которая ждала его однажды ночью, за две недели до того, когда они с Билли Сваном закончили играть и он подошел к стойке, чтобы попросить у Флоро еще стаканчик бурбона или джина.