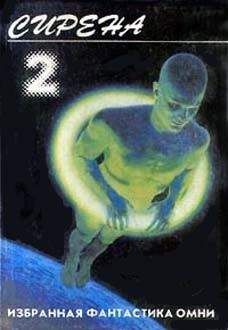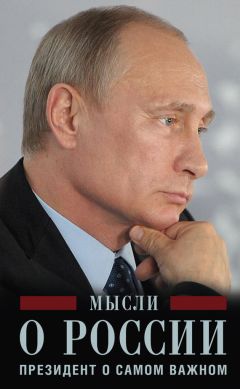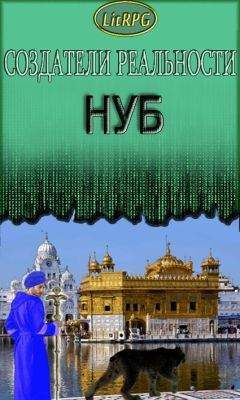Александр Соболевский - На перекрестии прицела
В горах гремят выстрелы гранатометов. Высоко в небе слышатся глухие хлопки рвущихся стингеров. Идет охота за людскими душами. Вчера над ущельем «духи» подбили наш вертолет. Пилот успел выброситься с парашютом. Порывом ветра его отнесло за выступ скалы. Возможно, он оказался ранен и не смог погасить парашют. Я видела, как его несло по склону горы, и ничем не могла помочь. Не знаю, попал ли он в руки моджахедов или разбился, сорвавшись в пропасть. Обломки вертолета чадно догорали на дне ущелья. Напоминание о случившейся трагедии. Сколько в горах таких напоминаний… Груды ржавого обгорелого железа, если бы они могли говорить!..
Мне страшно глядеть через оптику прицела. Но я пересиливаю свою слабость. Тогда наваждение исчезает. Оно растаяло за дымкой голубоватых линз. На перекрестии не видно моего лица. Пропало куда-то. И было ли оно?.. Это мой страх, рождающий призраки. У великого испанского художника Гойи есть офорт из серии «Капричес». Называется он — «Сны разума плодят чудовищ». Неужели мой разум спит? Мое лицо в прицеле винтовки — порождение страха, болезненного сознания, ненормального состояния моей психики. Не знаю, чем всё это объяснить… Не надо думать о пугающем мороке. Надо успокоиться.
Проверяю себя… Отрываю глаза от окуляра, жду и снова гляжу в прицел. И снова мое лицо возникает в стеклянном круге линз. Не позволяет взять прицел. Непонятно: откуда оно там берется? Обман зрения, какая-то оптическая аберрация? Мираж… Напряженно всматриваюсь в своего двойника, вижу лицо четко, как в зеркальном отражении. Призрак смотрит на меня в упор сквозь перекрестие. Мне представляется, что мое лицо перечеркнуто крестом в реальном пространстве. Если я в этом пространстве, я не могу стрелять, стрелять в самоё себя, не могу свершать самоубийство. Стоит лишь нажать на спусковой крючок моей безотказной винтовки — и всё кончено. Нет, нет… Я не буду стрелять в самоё себя… Стрелять в кого бы то ни было. Неужели схожу с ума?.. Моя воля парализована страхом. Я не смогу сделать прицельный выстрел. Кто-то посылает мне знак оставить снайперскую работу. Перекрестие прицела — оно мой крест и мое распятие. Каждая пуля, как забитый в мое распятие железный гвоздь, попадает в меня. А выстрел раздается как удар молотка. Да, пожалуй, этот морок, этот мираж послан как предупреждение, как спасение от греха убийства. Ибо не ведаю, что творю. В овладевающем мною страхе — угроза ответственности и вины, угроза лишения будущего. Никто мне не давал права распоряжаться человеческими жизнями. Такое право принадлежит одному Богу. Я добровольно согласилась на командировку в Афганистан. Прельстилась на обещанные хорошие деньги. Никто не виноват, что я здесь, в Афгане, кроме меня самой… Да, за пребывание здесь я получу хорошие деньги. Дострою кооперативную квартиру. Если останусь жива и меня не привезут на родину в «черном тюльпане», запаянной в цинковый гроб, который нельзя вскрывать. Если я останусь жива, я не знаю, как буду жить после Афгана. Наверное, не смогу больше участвовать в соревнованиях по стрельбе. Избавлюсь ли от афганского синдрома? Моя Голгофа еще не пройдена. «Виа дела роза» продолжается…
Смерть не освобождает от ответственности за содеянное. Умирает тело. Душа остается. Она-то знает о своем бессмертии и свободно говорит о нем, хотя научно доказать его нельзя. Доказать как факт, имеющий практическое значение для жизни.
Вера в Бога… Теперь я знаю: ее необходимо выстрадать. Господь послал мне испытания ради моего спасения. Когда я уверую во Всевышнего, жизнь не станет казаться страшной. Я еще сомневаюсь, примет ли Христос мою веру… Я до сих пор блуждаю во тьме. И война, на которой я нахожусь, это тьма, мрак. Я погружаюсь в него… Спаситель, надеюсь, откроет мне глаза, чтобы я увидела Свет. Я выйду из мрака. Ради этого хочу верить в Творца и Спасителя нашего. Боже, помоги мне верить!
Эта ночь моих раздумий и призрачных видений, которую я пережила на краю ущелья под скалой, была последней ночью моей командировки, моей афганской войны. Закончился срок контракта. Командование воинской части вело разговор со мной о продлении моего пребывания здесь еще на полгода. Обещало в скором времени представить к боевой награде. Я отказалась, сославшись на здоровье. Лучшая награда — что я осталась жива… По-видимому, кому-то еще нужна моя жизнь… Меня не убил афганский снайпер. Не завалил камнепад при обстрелах фугасами и ракетами. Не сорвалась ночью в пропасть с узкой горной тропы. В том, что длится моя жизнь, нет моей заслуги. Только промысел Божий.
* * *Воспринимать жизнь такой, какой я воспринимала ее до Афгана, я теперь не могу. Не могу воспринимать без видения ее смысла. К такому видению человек приходит разными путями. Но всегда через Бога.
Знакомый до кустика, до каждого телефонного столба железнодорожный разъезд… Россия. Тёпловка. Мирная тишина. Сельская улица с церковью на покатом косогоре. Рядом бабушкин дом. Взволнованно бьется сердце в ритм пушкинским строчкам: «Два чувства с детства близки нам, в них обретает сердце нишу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу…»
Я вижу бабушку Олю в палисаднике. Она разогнулась над рядами зацветающей картошки и смотрит в мою сторону на дорогу. Узнала. Ждала… Я почти бегом бросилась к распахнутой калитке, слышу знакомый родной голос: «Верочка! Веруня!» Мы обнимаемся и плачем.
— Я знала, что ты днями приедешь, — сквозь слёзы говорит бабуля. — Чуяло сердце. Устала, поди, с дороги. Проголодалась…
— Проголодалась, проголодалась! Соскучилась обо всём… По тебе, по цветам на подоконнике, дребезжанью ходиков на стене…
— Ты бы посмотрела, как нынешней весной цвела у нас сирень! Давно так не цвела…
— А речка сильно разливалась?
— Такое водополье было! Всё займище затопило. Чуть мост в селе не снесло.
— Представляю, баб Оль…
В доме достаю из сумки гостинцы. Кашемировый платок, теплую шерстяную кофту. Бабушка, в свою очередь, старается угодить угощеньем. Хлопочет у печки. Жарит картошку. Попросила слазить в погреб за солеными груздочками.
— К твоему приезду оставила. Завтра пироги затеем с белыми грибами. С ведро в прошлое лето насушила… Хочешь — супа наварим. Что у меня есть — тем и кормить стану. Домашними харчами. Скоро земляника поспеет. Поживи-ка здесь лето. Походим за грибами, за ягодами, как прежде.
— Поживу, баб Оль. Походим…
— Смотри, Верунь, в погреб осторожней спускайся. Лестница старая. Перекладины гнилые.
Слазила в погреб, захожу на кухню — баба Оля лежит на полу головой к печке. Без сознания. Я — к ней… Смотрю в лицо, а лицо бледное. Зову — не откликается. Осторожно перенесла ее на кровать. Пощупала пульс, а он не прощупывается… Скоропостижная смерть застала бабулю на ногах. По-видимому, сердечный удар. Напрасно надеялась я на возобновление пульса, делала искусственное дыхание. Что же, бабуля, ты ничего не сказала мне, ждала меня, дождалась и не сказала последнего слова?..
Я до утра посидела на кровати возле покойницы, держа в руке ее холодную сухонькую руку.
Отпевать бабушку я привезла священника из районного городка. Вспомнила: он крестил меня, десятилетнюю девочку, по просьбе бабули, в городской церкви. Старик-священник и теперь служил в ней. Конечно, он не помнил меня. Мало ли кого ему довелось крестить. И малолетних, и взрослых.
Проводили бабушку Олю в последний путь честь честью. За гробом шли остатние жители Тёпловки. Немного их было… Холмистое поле за селом на пути к кладбищу желтело цветущей сурепкой. Неторная дорога заросла травой. «Заглохла», — сказала бы бабуля. Вот так и Тёпловка заглохла, подумалось с грустью. Не только молодежи никого не осталось, старух можно по пальцам пересчитать. Дома стоят заброшенными. Запустенье. И оскуденье…
Похоронная процессия остановилась на краю погоста у свежевырытой могилы. Священник, дымя над гробом кадилом, пропел «Со святыми упокой».
— Прощай, Ольга, прощай, — закрестились старухи. — Вечная память… Царствие небесное…
Скорые поминки в бабушкином доме. В раскрытые окна виднелась разоренная, в сиротской заброшенности, церковь. Укорным перстом торчала колокольня с ободранным куполом. Не дождалась баба Оля времени, когда возьмется народ за восстановление Божьего дома. Ждала и жила этой неумирающей надеждой. Хотя и понимала разумом всю ее тщету. Разумом, но не чувством. Верила тому, что говорили чувства. Не могла представить, как же станет стоять село без церкви, верила в зиждительное чудо созидания.
Старухи напоминались, наговорились, потихоньку разошлись. Я осталась ночевать одна в опустевшем доме. Скреблись мыши в подполье. Моргала, догорая, поминальная восковая свеча на божнице перед образами. Не спалось. От переутомления и всего пережитого… Детство возникало в памяти. Нет, ничего не забылось, всё остается со мной. И видения дивных храмов за лесом, за холмом, у озера Светлояр в солнечный предосенний день. Верилось: увиденное мною было тогда на самом деле. Если пойти по тем бабушкиным местам, я отыщу затерянное в лесах диво и увижу его вновь.