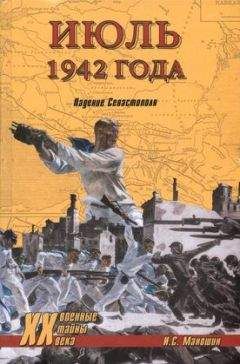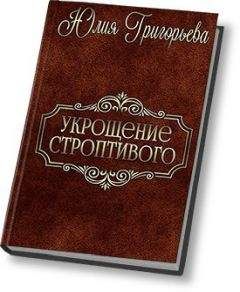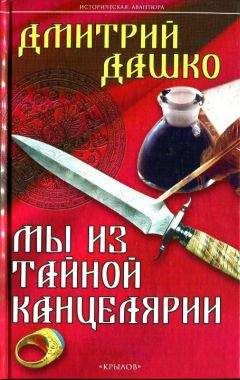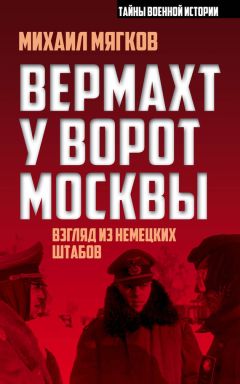Жак Шессе - Сон о Вольтере
Без сомнения, я не прав, глубоко не прав в том, что принимаю жизнь не такою, как она есть. Я говорил уже о том неверном, но благодатном свете, что озаряет любое воспоминание, и иногда спрашиваю себя, не он ли — тот единственно верный, единственно надежный и непогрешимый свет, помогающий освежить память и ежедневные наблюдения, тот вневременной свет, что неровными вспышками озаряет и вызывает из небытия эпизоды прошлого, словно волшебные райские видения. Стало быть, я счастлив в Усьере? Да, видимо, счастлив, по крайней мере, в воспоминаниях. Так как же мне не любить это слабое, туманное, но зато неподвластное смерти и времени мерцание, предпочитая его тем слепящим огням достоверности, что претендуют на управление нашим веком во имя опыта и разума.
VIII
— Не желаете ли, сударь, сразиться со мною в шахматы? — спрашивает дядюшка, войдя в гостиную.
— Я предпочел бы партию в шашки, — отвечаю я с хитрым видом.
Это у нас с ним такая игра. Сперва я должен отклонить предложение, попытаться его переиначить, как позже время сделает это с моими воспоминаниями.
— Вы меня дразните, дорогой племянничек. Вам хорошо известно, что я побаиваюсь игр, дозволенных Регентством!
Так мы перешучиваемся меж собою. Я должен с невинным видом стоять на своем, отлично зная, что игра в шашки раздражает господина Клавеля, ибо ею до безумия увлеклись в свете после смерти короля, а к изобретению ее приложил руку некий весьма подозрительный поляк. Дядюшка с улыбкою подталкивает меня к шахматному столику, с притворной строгостью усаживает на плетеный стульчик, а сам садится напротив. Все это — также часть ритуала: я упираюсь и заставляю себя просить — для виду, а дядя якобы принуждает меня к игре — так, словно отдых, развлечения, забавы, даже такие интеллектуальные, немного постыдны, и требуется весь его авторитет, дабы принудить меня к этому. Итак, мы расставляем фигуры, и воцаряется глубокое молчание: мы оба привычно изображаем сосредоточенность в начале игры. Возможно, мы молчим еще и потому, что нам приятно сидеть вдвоем, лицом к лицу, совсем как в те времена, когда господин Клавель преподавал мне начатки латыни и греческого в своем маленьком лозаннском домике, и даже колокола церкви Святого Франциска не могли отвлечь нас от занятий.
Однако похоже, что в этот час, в этом салоне, укрытом от послеполуденного зноя Усьера, господину Клавелю не очень-то легко сосредоточиться на нашей партии: в верхних этажах уже начинается суета после дневной сиесты, слышатся шаги, хлопанье дверей, вот кто-то отворил окно в густой сад, откуда доносится неумолчный птичий щебет, аромат разогретой земли и все тот же туманный свет, проникающий даже в наш затененный уголок, где мы старательно двигаем фигуры на доске. Мой дядя нервничает, делает несколько промахов, один за другим, и наконец, скрестив руки на груди, пристально смотрит мне в глаза.
— Слышите ли, дорогой племянник, всю эту сумятицу после дневного сна? Ну так вот. Я, как вам известно, не поэт, но не могу не сравнить сию шумную неразбериху с тем состоянием, в коем, по моему мнению, пребывает нынче ваш ум.
— Мой ум, дядюшка? Что вы хотите этим сказать?
— А то, милый племянник, что я чувствую в вас некое смятение. У меня такое чувство, будто вы скрываете от меня свои мысли. Я наблюдал за вами несколько последних недель: вы молчаливы и куда более сдержанны, чем прежде. Со времени визита господина Казановы — коль скоро нужно уточнить этот период, — мне кажется, вы на всё в доме взираете с упреком. Может быть, я ошибаюсь? Может, я, не страдающий, как вы знаете, пылким воображением, рисую картину слишком мрачную? Ежели это так, прошу вас извинить меня и счесть мои речи всего лишь очередным знаком интереса, каковой я питаю к вам.
В последующие дни этот вполне невинный вопрос дядюшки принял в моих глазах угрожающее значение. Коли уж господин Клавель задал его, значит, он приметил сомнения, рожденные во мне нашим образом жизни в Усьере — поведением его обитателей, их явными или тайными отношениями, их словами и пристрастиями, в той мере, в какой они желали их выказывать. И, таким образом, он не может не знать, что я обнаружил трещины на гладкой поверхности нашего существования и теперь страдаю в одиночестве, не в силах довериться никому другому. Но какие же это трещины? Ведомо ли это мне самому? Поведение мадемуазель Од? Да разве оно столь уж преступно? Разве это не естественно — скрывать тайный жар под скромными манерами? А может быть, я воображаю все эти бездны, провалы, дыры под личиною того, что зову притворством, дабы потешить свое сиротское одиночество? Не стану ли я скоро походить на печального Руссо, который всюду видит ложь? Не вздумаю ли обличать скрытность на манер «Руководства исповедника»? Да и что такое хитрость? Всего лишь добродетель, необходимая для победы над более сильным противником. И что такое ложь? Хитрость, к которой прибегают, дабы спастись от непреодолимых обстоятельств. Следовательно, мне нет нужды хитрить, и никто в этом доме не лжет. Вдобавок, так ли уж важны все эти вопросы, коль скоро все это мне пригрезилось? Я хочу быть достойным этого сияющего лета. Вот так-то. Я вполне счастлив. Я все еще грежу. Смотрите, вот я сижу с закрытыми глазами, омытый золотистым светом, одурманенный теплом земли и уже чуть прохладными ароматами деревьев, убаюканный голосами бескрайних полей и блаженным сиянием небесного лазурного купола.
IX
Од Белле живет в лете, как ловкий и гибкий зверек — кошка или, напротив, птичка, сообразно ритму дня. По правде говоря, мне трудно сделать выбор между животными метафорами: мадемуазель Од обладает и настороженной грацией неуловимых кошек, что вольно бродят, где им вздумается, а после дремлют вполглаза в темном уголке, и свободою птиц, что смирно ютятся в своем гнезде, а миг спустя, бог знает почему, вдруг вспорхнут и пропадут из виду — где они? Исчезли? Нет, вон снова бесшумно опустились на свой куст. Что руководит ими — время дня, дикий нрав или тайный жар, устремляющий эти создания к местам, где мы не можем настичь их?
А грезит ли сама Од Белле? Нет, мне кажется, она создана для действия так же, как я для мечтаний и грез. Она — кошечка, она — птичка, но притом крепко себе на уме и способна была бы преподать уроки философии самому доктору Панглосу[9].
— Доктору Панглосу, дорогой племянник? Вы в этом уверены? А при чем тут сей господин? Что такое?
Весь дом спит, один лишь я, как обычно, погрузился в грезы. Кто же это говорил? Да никто. Просто в силу причин и следствий, как выразился бы тот доктор из сказки, а также в силу необходимости логически связать их меж собою, произошло следующее: мадемуазель Од только что прочитала «Кандида» в прелестно изданном томике, который дал ей дядя, и теперь вот уже неделю, каждый божий день, цитирует этот опус господина Вольтера, изображает его героев, пересказывает их приключения, их треволнения, их разговоры и страхи, да столь подробно, что я досконально знаю и девицу Кунигунду, и доктора, и анабаптиста Якова, и ученого Мартена и, разумеется, самого Кандида так, словно сам пережил вместе с ними всю эту историю.
Словом, она поминает их по всякому поводу, как мы, будучи детьми, цитировали персонажей Лафонтена, этих пресловутых зверей, которые позже начинают внушать нам симпатию или страх, ибо являют, словно в зеркале, нас самих. Вот отчего нынче мне понятно, что нашла мадемуазель Од в «Кандиде» — то были отражения ее самой и той жизни, что мы вели здесь, в Усьере. И вот отчего я с нетерпением жду, когда она отдаст мне книгу, чтобы как можно быстрее разобраться в ее игре и в моей собственной.
— Скоро ли вы позволите мне прочесть эту сказку? — что ни день, спрашиваю я у мадемуазель Од.
— Я еще не кончила читать, — со смехом отвечает она.
Похоже, она не желает посвящать меня в то, что там написано. Я терплю день, два, и снова заговариваю о книге.
— Од, прошу вас, не отдадите ли вы мне сегодня «Кандида»? Напоминаю, что вы получили ее от дяди еще три недели назад. Отчего вы не желаете поделиться со мною тем добром, что оказал вам господин Клавель?
— Ну, хорошо, я вам уступлю ее, дружок, обещаю. Только дайте мне списать несколько страничек в мой альбом.
Проходит еще три дня, а книги нет как нет.
— Ах, оставьте! Господин Клавель только что получил письмо из Фернэ, от господина Вольтера: он будет у нас в следующий четверг. А нынче уже воскресенье. Стало быть, мне надобно перечитать повесть еще разок, чтобы не выглядеть совсем уж дурочкою перед автором. Но не волнуйтесь, я скоро отдам вам книгу, и вы тоже сможете похвалиться своей начитанностью. Вся Европа говорит об этой повести, так неужто же мы позволим себе здесь, в Усьере, выглядеть перед господином Вольтером неотесанными крестьянами?!
Ах, как блестят ее глаза! Как гибки и грациозны движения! Я с острой болью в сердце слежу за ее изящной фигуркой в жарком свете дня. Никогда еще взгляд ее не горел таким живым огнем. Кто же целовал нынешней ночью эти прелестные губы, кто сжимал в объятиях это соблазнительное тело? Лесник? Или торговец мясом? Проблеск воспоминания, проблеск грезы — и снова сердечная мука. В тысячный раз я крадусь следом за нею по коридору, бесшумно спускаюсь по лестнице, отворяю дверь, миг назад прикрытую ее рукой. И вижу ее, коварную, торопливой поступью идущую в светлой ночи. Или же это еще день, час сиесты, и я преследую ее до самой реки, где, затаясь в кустах, смотрю, как она стоит в воде, обнаженная, перед мужчиной, сжимающим ее бедра, а потом со стоном ложится под него в зарослях на берегу.