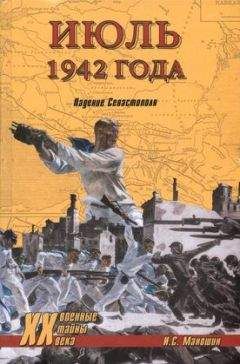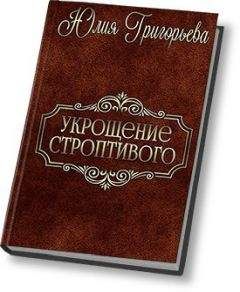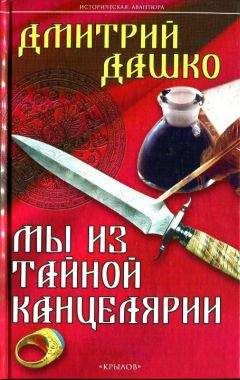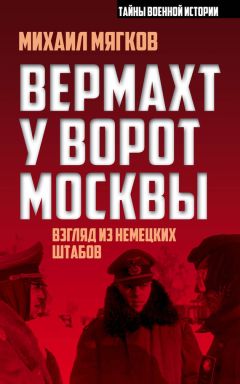Жак Шессе - Сон о Вольтере
— Вы ведь знакомы с господином Вольтером, не так ли, дорогой мой Клавель?
— Знаком лично и горжусь этим. Мы оба трудились для короля Пруссии, каждый на свой лад, и это нас сблизило. Если помните, великий Фридрих несколько раз советовался со мною, как уладить свои разногласия по поводу Нешателя[5]. Но не могу сказать, что со мною обошлись лучше, чем с господином Вольтером. Когда речь заходит о благодарности…
— Ingratissimi potentes [6], дорогой мой друг. Вы обладаете достаточно ясным умом, чтобы снести несправедливость как истинный философ. Но скажите мне, пожалуйста: эта юная особа, что подает нам сиропы с такою грацией… заметили ли вы ее медлительность? Или, вернее, некую особую, томную расслабленность в походке, в изгибе бедер?
Я сижу на низеньком стульчике напротив моего дяди и доктора Тиссо и прилагаю огромные усилия к тому, чтобы на лице моем не отразилось смятение. Уж я-то знаю, отчего мадемуазель Од двигается с той расслабленностью, которую приметил наш зоркий эскулап. Знаю, где она скрывается в послеполуденные часы, когда в доме все отдыхают и даже сама госпожа Клавель, отложив своего драгоценного «Катона», сладко дремлет, разморенная теплом. Она плещется в речке, наша мадемуазель Од! Вот только с кем нынче — с лесником или мясником-разносчиком? Я слышу, как она осторожно крадется вниз по лестнице, и мне нужно лишь подобраться следом за нею к воде, под покровом листвы; она проворно сбрасывает с себя одежду, а мужчина уже ждет ее, стоя в потоке, также совсем обнаженный, и я вижу, вижу, чем они занимаются, укрывшись потом на бережку, в кустах. Стоит ли дивиться, что она так утомлена, наша разумная мадемуазель Од Белле, когда приносит нам полдник?! Опять эта ширма, скрывающая истину. Опять ложь, но такая неуловимая, на таком ясном, невозмутимом лице… о, эта обманчивая видимость, за которой кроется погибель! Как будто мир — это ложная простота, условный код, явная, общепринятая система знаков, и зеркало, в коем мы рассматриваем его, отражает в первую очередь лишь притворство. И только затем, когда копнешь поглубже, душе открываются такие мрачные бездны, что она замирает в изумлении и ужасе.
Моя душа уже дала трещину, я это знаю: мне чудится гроза в безоблачном лазурном небе, я угадываю тревогу, скрытую за гладким лбом, обнаруживаю нетерпение, терзающее плоть, жгучие желания, тайные страсти, бурлящие в грозном сумраке. Ах, как душно мне в причудливых вспышках вашего разума, дорогие просвещенные гости сеньора Бранльского, господина Клавеля! Вашего блистательного разума, способного, как говорят, озарить весь наш век!
Тем временем я довольно вяло продвигаюсь в моих занятиях богословием. Господина Клавеля это очень беспокоит, но я не в силах объяснить ему, где мое больное место. Да и знаю ли я сам, в чем дело? Преподаватели мои чрезвычайно строги, познания их обширны, усердие беспредельно. Здесь также все ясно. История христианской религии неизбежно приводит к Кальвину и тем господам из Берна, что сделали из Лозаннской академии фабрику по производству пасторов. И на этой фабрике учусь я, Жан де Ватвиль; я стану пастором, как мой отец, как многочисленные кузены моего отца, как мой прадед, гебраист и переводчик Псалмов. Все благополучно.
Нет, как раз ничего благополучного в этой истории нет. Наставники мои слишком явно щеголяют своей ученостью, слишком усердно проявляют свою строгость, слишком открыто предаются священному экстазу и молитвам о спасении души. Оттого-то я и им не доверяю; их бритые головы без париков и нарочито скромные серые суконные одеяния вызывают у меня подозрение. Да, они смиренны! Но какую гордыню, какую ученую суетность, какие пороки скрывают они под этим дежурным покровом фальшивых священников? Мне трудно, почти невозможно открыться встревоженному господину Клавелю. Я уверен, что он не поймет меня. Он человек добрый, но напыщенная серьезность других ослепляет его, а я недостаточно ловок, чтобы подать свои горести в нужном свете.
VI
Вот отчего я с величайшим нетерпением жду предстоящего визита в Усьер господина Казановы из Цайнгальта. Это станет для меня и развлечением, и вызовом моим преподавателям, чей авторитет внушает мне все большее отвращение. Господин Казакова раздражает общество? Что ж, тем лучше! Одно его присутствие исцелит меня от спесивого высокомерия фарисеев из Академии. У господина Казановы репутация игрока? Да, он играет и проигрывает, притом, как рассказывают, с блеском, а мне такие нравы в тысячу раз милее, нежели ханжеские приличия моих наставников. Господин Казанова дебошир? И вдобавок обжора? Что ж, он любит плоть и вкусную еду, а его жадный аппетит есть гимн творениям Божьим. Сам господин Клавель, человек умный и просвещенный, не слишком опасается его. «Я таких видывал на своем веку», — говорит он, посмеиваясь. Он утверждает также, что господин Казанова отважен и чистосердечен. И что единственный его грех состоит в том, что он не скрывает дел, которые другие творят втихомолку.
Говорят также, что на прошлой неделе господин Казанова, будучи в Женеве, пустился во все тяжкие в компании какого-то синдика, тайного любителя плотских утех, и некой Хедвиги, как ни странно, племянницы местного пастора. Забавы их наделали шуму, и господин Казанова, по своему обыкновению, вынужден был спасаться бегством. Однако, невзирая на это, сам господин Вольтер трижды принимал его у себя в «Усладах», а разве то, что возможно в Фернэ, не дозволено и в Усьере? Говорили еще, что господин Казанова намеревается завести в Лозанне, по просьбе нескольких банкиров, новомодное развлечение — лотерею, в которую играют уже и в Париже, и в Амстердаме. Кроме того, мой дядя отнюдь не забыл о том, что Венецианец, как его прозывают, еще и доктор богословия. Итак, его пригласили, он приедет, он находится в Лозанне для устройства лотереи, а заодно и судьбы некой дамы, госпожи Дюбуа, чье общество его тяготит; он остановился в гостинице «Корона» и завтра пожалует в Усьер.
В самом деле, господин Казанова приезжает вслед за ходящими о нем слухами. И тотчас располагает нас к себе очаровательным легким нравом. Он созерцает сельские красоты и видно, что впрямь любуется ими. Он слушает голоса Усьера, и ясно, что они впрямь ему нравятся. Он ест и расспрашивает хозяев о том, что у него на тарелке. Всех людей, и мужчин и женщин, он окидывает своим зорким, хищным взглядом, и на его чутком лице мгновенно отражается мнение о них.
Мы сидим в саду, мы пьем шоколад, который мадемуазель Од подала нам в фаянсовых чашках; господин Казанова обмакивает бисквит в пенистый напиток, подносит его ко рту и медленно слизывает сладкую капельку, оставшуюся на губе. Никто ничего не видел, один лишь я заметил сей маневр и ответный взгляд, коим мадемуазель Од подарила нашего гостя. Гостя, который теперь, уверясь, что и тут обеспечил за собою победу, охотно беседует с моим дядею, интересующимся управлением Венецией.
Но один вопрос, среди всех прочих, особенно занимает господина Клавеля. Дядюшка пока тактично не задает его, но едва речь заходит о разрешении или запрещении азартных игр в Лозанне и Женеве, как он тотчас пользуется этим предлогом, чтобы спросить:
— А кстати, о Женеве: вы ведь побывали там несколько дней тому назад? И, ежели я верно понял, дорогой друг, даже гостили в Фернэ? Как поживает наш любимый друг, господин Вольтер?
И тут Казанова, подняв голову и пристально глядя ему в глаза, изрекает:
— Господин Вольтер? Великий Вольтер? Vanitas vanitatum[7].
Вот и всё. Он ни минуты не колебался. Сказал и теперь молчит. На лице моего дяди выражается оторопь.
Какая мертвая тишина царит за столом! Мне чудится, будто мир, который я знал доселе, этот спокойный и внятный мир, нежданно разверзся под нами, словно треснул от удара молнии. Да, именно так: весь мировой порядок рухнул в пропасть и на его развалинах остались лишь ужас и позор. Еще миг назад мы были в Усьере, сидели в саду, за столом философа, радушно принимающего у себя просвещенных гостей. И вот, в один прекрасный день лета 1760 года, в час полдника, один из этих гостей коротеньким библейским изречением смертельно оскорбил господина Вольтера, почитаемого, как бог, в нашем доме. И это убийственное словцо сделало свое дело: все мои сомнения в истинности видимого, все страдания по поводу обманчивости нашего мира, его вещей и обитателей, всё это вмиг оправдывается; дефиниция господина Казановы безжалостно и грубо стирает позолоту лжи с окружающей действительности.
О, как тяжела эта минута, как страшен этот зияющий провал! Мягкий предвечерний свет окутывает холмы, разговор за столом зазвучал вновь, я слышу слова — да, всё верно: кто-то спрашивает, кто-то отвечает, беседа течет вполне мирно, но теперь это выглядит так, словно сей глубокий поток отравлен смертельным ядом. Словно жизнь убита в самом зародыше. Вдали от нашего стола, вдали от рощицы вязов и шарообразных самшитовых кустов, за пределами начинающего желтеть сада, мерцают холмы под клонящимся к горизонту солнцем, зрелые хлеба застыли в безветренном воздухе, невидимые жаворонки по-прежнему звонко кричат где-то в вышине. Вокруг царит безмятежный покой. Однако яд уже проник в кровь. До сих пор Усьер для меня был храмом поклонения господину Вольтеру. Но хватило одного слова господина Казановы, одного изречения из Экклезиаста, прозвучавшего в доме высокоученых кальвинистов, чтобы разрушить эту магию, разоблачить обман и восстановить хаос — обиталище первородного греха.