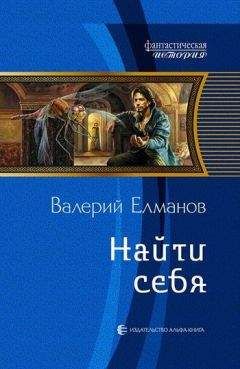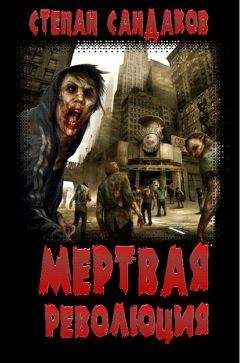Валерий Шашин - Хотелось бы сегодня
Взять хотя бы всё те же образчики блуждающих по Европе («которую, кстати, Потрохов, по его словам, знал, как свои пять пальцев») кирпичей. Лишь совершенно случайно Васильчиков выяснил их количество — больше полутора тысячи штук! — и на более чем закономерный вопрос: «Куда же мы их, Витя, денем?» — не получил ни одного сколь-нибудь вразумительного ответа, кроме, разве, раздражительного отмахивания:
«Да денем куда-нибудь!»
«Куда?! Надо же заранее об этом подумать!»
«Да хоть в твой гараж!» — чуть подумавши, брякнул Потрохов и довольный удачно пришедшей мыслью испытующе уставился на Степана, мол:
«Что скажешь? Сам напросился».
Да! Пусть бы оно и так — напросился! Но ведь не столкнись они тогда случайно на улице, никакого подручного гаража у Потрохова не было бы и в помине, не говоря уж о том, что и Степан отдавать свой бокс под кирпичи, вроде бы, совсем не собирался.
Однако упоминать о подобного рода очевидных несуразицах Потрохову было бесполезно.
Всё, буквально всё, делалось им, по мнению присмотревшегося к нему Васильчикова, через одно место. Но делалось! Это было самое поразительное. Кирпичом — Васильчиков узнал об этом из прямых источников, возил на подпись бумаги — всерьёз интересовалась крупная строительно-инвестиционная компания, собиравшаяся из этого голландского кирпича строить ни много, ни мало как голландскую же деревню, — уже начиналась рекультивация закупленной под неё в ближайшем Подмосковье земли. Для начала дела это была неслыханная удача, такой мощнейший трамплин, о котором можно мечтать только во сне — и непрерывные многолетние заказы, и реклама, всё, как говориться, в одном флаконе. И этот несбыточный сон прямиком валился в Потроховские руки! А он, вместо того, чтоб целиком и полностью сосредоточиться на этой первостепенной важности задаче, отвлекался на, чёрт знает какую, невразумительную мелочёвку, типа распродажи библиотеки какого-то там почившего в бозе дальнего родственника, отнимавшей у него, Потрохова, уйму времени. И подобных дел у него было в невпроворот.
«Кручусь, блин, с утра! — жаловался он, как забубённый гуляка, Светке и веско уточнял, выставляя указательный палец. — Но не до позднего вечера, а до поздней ночи!»
И это соответствовало действительности, — у одних только Васильчиковых Потрохов засиживался за полночь, хотя, по его же словам, ему «завтра с ранья» нужно было куда-то там спешно гнать.
Куда?
Сие частенько оставалось тайной, но Степан готов был о заклад биться, что гонка того не стоила. И он в этом поминутно убеждался.
Васильчиков, пожалуй, ещё не встречал в своей жизни человека, который, постоянно спеша и вечно опаздывая, столько бы времени транжирил абсолютно зря.
Скажем, Потрохов часами мог искать какую-нибудь квитанцию, о которой и вспомнил-то совершенно случайно, вдруг, и которая именно сейчас ему была не нужна вовсе. Однако найти её именно сейчас, немедля, становилось для него словно бы делом наиважнейшего принципа. Или, что ближе к истине, как уже подозревал Васильчиков, болезненной патологии.
«Я же её здесь положил. Блин! Куда же она задевалась-то? Ну, вообще! Здесь же лежала!» — с этой фразой, даже интонационно одинаково повторяемой, Потрохов способен был буквально часами перекладывать и перетряхивать все попадающееся ему под руку вещи и предметы. Взгляд у него при этом был блуждающий, отсутствующий и, прямо скажем, вполне маразматический.
Бардак же в его полуторокомнатной квартире стоял беспримерный.
Когда Степан впервые вошёл к нему, то, несмотря на предупреждение не пугаться, впал и в оцепенение, и в оторопь, — он и представить себе не мог, что Потрохов, да и вообще кто-либо, может жить вот так вот. Длинный гостиный стол, за которым Потрохов, как «правильно воспитанный человек», завтракал, обедал и ужинал, был завален самыми разнообразными вещами и предметами, к столу, тем паче обеденному, ни малейшего отношения не имевшими. Так, например, среди валявшихся там как попало книг, журналов, полиэтиленовых пакетов, жестяных и стеклянных банок (пустых и наполненных), бумажных и деревянных иконок, свечей, в том числе и автомобильных, шариковых ручек, карандашей, записных книжек, очков и очешников, лекарств и салфеток, рулонов туалетной бумаги, связок ключей от машины и от квартиры, гаечных ключей, отвёрток и свёрл, рекламных буклетов, сувенирных значков, початых и непочатых бутылок вина, пачек с сигаретами, хотя Потрохов не курил, образцами кафельной плитки, пакетиков с чаем, электродрели, густо посыпанной побелочной и кирпичной пылью, машинки для стрижки волос, бритвенного помазка, устаревшей мобильной трубки, включенной теперь специально для связи с Васильчиковым, и устройства для её подзарядки, тоже теперь находящегося у Степана, сложенного, но не зачехленного зонта, — чехол валялся где-то отдельно, — рассыпанной мелочи и мелких бумажных купюр, нередко и долларовых, кошелька, квитанций, чеков и множества всего иного, чего не упомнишь и не перечислишь, мог совершенно спокойно лежать вывернутый наизнанку носок, в то время как парный ему пребывал в спальне, под никогда, видимо, не застилавшейся кроватью, со скомканными вжамульку простынями. Местом же для принятия пищи нелюбителю кухонного застолья служил то ли выгороженный, то ли стеснённый со всех трёх сторон наседающими вышеперечисленными и не перечисленными предметами пятачок, обозначенный пластмассовой подставкой для тарелки и приборов.
Такой же пятачок был тотчас же создан и для Степана, причём — поразительно просто; Потрохов, следя за тем, чтобы с краёв стола ничего не посыпалось, просто взял да и двинул обеими пятернями все лежащие на краю предметы, — они поползли гуртом, ещё больше скучились посерёдке, и пространство для гостевой чашки и блюдца образовалось.
«Сидай, Стёпа, сидай!»
За спиной Степана оказались книжные полки, украшенные фотографиями и всякими сувенирными безделушками, довольно-таки на вид занятными, а перед глазами — диван, сплошь заваленный кучами белья и одежды, — с правой стороны, выстиранной чистой, как пояснил Потрохов, а с левой, наоборот, приготовленной к стирке грязной.
Помимо всего этого, в небольшой квартире имелось ещё много чего всякого: этажерки, тумбочки, напольные часы, гравюры, кубки, литые и мраморные статуэтки, фарфоровые и жестяные чаши, почерневшие, битые иконы, резные братины, нуждавшиеся, как, впрочем, и всё остальное, в серьёзной реставрации и ремонте. Всё это и лежало, и стояло, и валялось на полу, по которому бесшумно скользили свалявшиеся серо-мохнатые комочки пыли, вспугнутые передвижениями Потрохова, занятого приготовлениями к чаю.
Степан чувствовал себя как в антикварной лавке, или, точнее, как в лавке старьёвщика, в которой всё хочется рассмотреть, потрогать, ощупать.
«Интересно?» — чутко уловил его настроение Потрохов.
«Не то слово!»
«Вот так вот! — довольный произведённым эффектом ухмыльнулся Потрохов. — Бардак, конечно! — уже с кухни весело кричал он: — А когда убираться-то? Некогда же, старичок! Это тебе хорошо — с двумя девками жить! А мы, — Потрохов входил с чайником в комнату, — холостёж! У нас всё по-простому!»
«Оно, так, конечно», думал про себя Степан, проникнутый состраданием к холостяцкому быту приятеля.
Он всегда считал, что женщинам работы в доме хватает, поэтому из того давнего уже декретного отпуска Светку в институт не вернул. Она особо и не настаивала, тем паче, что вскоре наладились рожать ещё, вдогонку, братика или сестрёнку, чтоб Ольгушка-лягушка не выросла эгоисткой. Рассчитывали, конечно, на сынишку, но беременность что-то не задалась, Светка выкинула, а потом долго приходила в норму. Потом береглась, потом… В общем, не судьба у них вышла с пополнением семейства. При всём при том жили, грех жаловаться, хорошо, и Светка, хоть и столичная штучка, оказалась женщиной серьёзной, без выкрутасов и глупостей, от которых семейная жизнь, как глянешь вокруг, такая пустая и глупая мука. Степану же упрекнуть жену было не в чем, — и уважала, и любила, пока… пока не грянула эта вот самая долбанная перестройка, а с нею и невиданная прежде Васильчиковыми нужда. Голодать, конечно, не голодали, но уровень жизни против прежнего снизился несопоставимо, а иногда, если честно признаться, подпирало уж совсем под самое не могу. А нужда, она, известное дело, кого хочешь из себя выведет, тем более — женщину. Да и мужик, что не говори, семью должным образом не обеспечивающий, настоящим мужиком считаться не может, и в доме, конечно, авторитета всяко не удержит, как не пыжься.
Это Степан понимал, да что там понимал — всем нутром своим исстрадавшимся за эти годы чувствовал. Чувствовал, а ничего переменить не мог. Ну, не нужен он стал этому обществу, не нужен! Как лишний человек из рассказов Чехова или какого-то там другого классика, которые все эти гримасы и ужасы капитализма уже давным-давно описали и разоблачили. А ведь вернулись-то к ним, к ужасам и гримасам, и — откуда вернулись? Ведь, если вдуматься, из светлого будущего вернулись-то, которое, в прошлое превратясь, ещё сильнее только высветлилось.