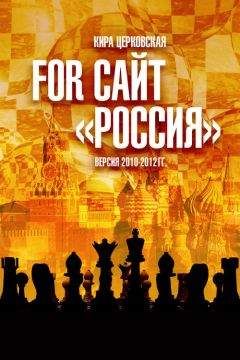Сэмюэль Беккет - Никчёмные тексты
VII
А все ли я испробовал, хорошо ли порыскал всюду, потихоньку, терпеливо вслушиваясь, стараясь не шуметь? Я говорю серьезно, как это часто бывает, мне бы хотелось знать, все ли я сделал, прежде чем доложить, что пропал без вести, и все бросить. И всюду ли, я хочу сказать во всех ли местах, где я мог бывать или бывал когда-то, дожидаясь часа, когда можно будет оттуда удрать, в надежных местах, все это я хотел сказать, когда говорил «всюду». Когда-то, я хочу сказать, когда я еще передвигался, чувствовал, что передвигаюсь, с муками, едва-едва, но в общем бесспорно перемещаясь с места на место, это подтверждали деревья, пески, воздух горных вершин, камни городских мостовых. Такая интонация многое обещает, она больше похожа на прежнюю, из тех дней и ночей, когда я хранил спокойствие, несмотря ни на что, и снова и снова проходил бесполезный путь, зная, как он короток и как нетруден, если смотреть с Сириуса, хранил спокойствие, как мертвый, посреди всех моих лихорадочных тревог. Мой вопрос, у меня был вопрос, ах да, все ли я испробовал, я его еще вижу, но он уходит, легче воздуха, словно облачко лунной ночью за чердачным окошком[28] на фоне луны, как луна за чердачным окошком. Нет, в прямом смысле я хорошо это знаю, в смысле вечерней тени, которую провожаешь глазами, думая о другом, в мыслях где-то витая, да, вот именно, в мыслях где-то витая, и глазами тоже, правду сказать, глазами тоже где-то блуждая. Ах, если уж говорить все, говорить из самой глубины души, как в гостиной, тогда нет, у меня только одно желание, если оно у меня вообще есть. Только вот еще одно, прежде чем перейти к серьезным вещам, у меня как раз есть на это время, если я поспешу, как раз есть время, в щели всех времен. И это еще одно, я его называю другое, это старое другое, которое я из последних сил стараюсь не выболтать, видя, как улетают мгновения, а с ними радости, я называю это радостями, я говорю о радостях, улетают, а я даже не пытаюсь воспользоваться случаем, так вот, это другое не сразу вспомнится, если память мне не изменяет, но оно вспомнится, в этом мое утешение, а с ним и вся мгновенная праздничная суматоха. Впрочем, это не я, я говорю не о себе, я это сто тысяч раз говорил, и нечего смущаться, смущаться, зачем я говорю о себе, хотя есть X, образчик рода человеческого, свободный в своих передвижениях, со своими радостями и муками, может быть, с женой и детьми, наверняка с предками, со скелетом по образу Божьему и черепом современного человека, но главное, со способностью к передвижению, вот что самое поразительное, с такой узнаваемой физиономией и такой назидательной душой, что в самом деле говорить о себе, когда есть X, нет, к счастью, я не говорю о себе, хватит, гнусный попугай, я тебя убью. А что если все это время, все это время я проторчал в зале ожидания третьего класса Юго-Восточного вокзала[29], не смея сунуться в другой класс, в ожидании отправления, что если я с минуты на минуту ждал отправления на юго-восток, вернее, на юг, на востоке море, вдоль всей железной дороги, ломая себе голову где, ну где выходить, или витая в мыслях не здесь, а совсем в другом месте. Последний поезд ушел в двадцать три тридцать, затем вокзал заперли на ночь. Сколько воспоминаний, это все для того, чтобы я поверил, что я умер, я это сто тысяч раз говорил. Но вспоминается все одно и то же, как спицы вращающегося колеса[30] всегда одни и те же, и воспоминания похожи одно на другое, как спицы. И, однако, я себя спрашиваю, каждый раз, когда наступает время себя об этом спросить, крутится ли колесо у меня в голове, вот я о чем спрашиваю, в такт с кровообращением, так мне кажется, а может, оно просто ходит взад и вперед, как баланс в коробке часового механизма, и то еле-еле, измерить-то надо необъятность, и потом, головы ведь заводят только один раз, одновременно с дыханием, так мне кажется. Но, черт побери, вот я опять далеко от конечной станции, в красивой неоклассической колоннаде, и далеко от этого комка мяса, кожи, костей и щетины, который ждет отправления, не зная куда, куда-то на юг, и, может быть, спит, зажав в руке билет во имя приличий, или уронив его на пол, потому что во сне все разжимается, и, может быть, ему снится, что он уже прибыл на станцию небо, или, верней, заря, и какая радость, когда можешь себе сказать, у меня целый день впереди, чтобы себя обмануть, чтобы наверстать, чтобы успокоиться, чтобы отказаться, мне нечего бояться, мой билет годен на всю жизнь. Там ли я остановился, я ли это сижу прямой и напряженный на краю скамьи, руки на коленях, зная, как опасно распускаться, билет зажат между большим и указательным пальцем, в этом зале, в который проникает только темный свет с перрона сквозь дверь на пружине, скупо застекленную и запертую на ключ, в темноте, это там, это я. В этом случае ночь длинна и удивительно безмолвна, и тому, кто, казалось бы, помнит нестройный хор городских шумов, вспоминается теперь только один шум, невозможное воспоминание об одном нестройном шуме, который длился всю ночь, разбухал, замирал, но ни разу ни на миг не прерывался тишиной, которая была бы сравнима с этой оглушительной тишиной. Из чего должно было следовать, но нет, ничего подобного, что зал ожидания третьего класса Юго-Восточного вокзала следует вычеркнуть из числа мест, пригодных для посещения, смотри выше, несколькими веками выше, что эта глыба мрамора уже не я и что следует поискать в другом месте или вообще махнуть рукой, и я сам того же мнения. Но не будем спешить, все города не вечны, и этот, возможно, уже умер, описанный в моем письменном задании, и заброшен вокзал, на котором я жду, прямой, напряженный истукан, руки на коленях, уголок билета между большим и указательным пальцем, жду, когда придет состав, который никогда не придет, никогда не уйдет туда, на лоно природы, или жду, когда рассветет за дверью, запертой на замок, с черным стеклом, покрытым пылью разрухи. Вот почему не следует спешить с выводами, слишком велик риск ошибиться. И искать меня в другом месте, там, где жизнь берет свое, а я здесь, откуда вся жизнь ушла, кроме моей, если я вообще живу, нет, это было бы зряшной тратой времени. А лично у меня, я слышу, как говорят, что у меня нет больше времени, которое было бы не жаль терять, и что на сегодня все, наступает ночь и мне пора начинать.
VIII
Только слова нарушают тишину, все остальное прекратилось. Если бы я замолчал, я бы уже ничего не услышал. Но если бы я замолчал, снова начались бы другие звуки, те, к которым я стал глух из-за слов или которые в самом деле прекратились. Но я молчу, так бывает, нет, никогда, ни на секунду. Я и плачу тоже не умолкая. Беспрерывно течет поток слов и слез. И все бездумно. Но я говорю тише, с каждым годом все тише. Может быть[31]. И медленней тоже, с каждым годом все медленней. Может быть. Сам я не замечаю. А значит, паузы, вероятно, удлиняются, между словами, предложениями, слогами, слезами, я их путаю, слова и слезы, мои слова — это мои слезы, мои глаза — мой рот. И в каждой маленькой паузе я бы должен слышать тишину, о которой я уже говорил, когда говорил, что ее нарушают только слова. А вот и нет, все время тот же шепот, струящийся, без перерывов, как одно-единственное слово без конца и соответственно без значения, потому что значение слов становится понятно только в конце[32]. Тогда по какому праву, нет, на этот раз я вижу, что достиг, чего хотел, и останавливаюсь, говоря: «Ни по какому, ни по какому». Но продолжая его, этот свой старый глупый погребальный плач, я задаю себе, задаю, пока не добьюсь ответа, новый вопрос, более древний, о том, всегда ли так было. Ну что ж, я себе сейчас кое-что скажу (если смогу), чреватое, надеюсь, надеждами на будущее, а именно, что я вообще перестаю помнить, как было раньше (смог), а под раньше я подразумеваю в другом месте, время стало пространством и его больше не будет, пока я отсюда не уберусь. Да, мое прошлое выставило меня вон, его решетки отворились, или я сам удрал, может быть, вырыл подкоп. Чтобы мгновение помечтать на свободе о днях и ночах, мечтая о том, как я буду, год за годом, скользить к последнему году, как настоящий живой человек, а после я вдруг очутился здесь, и все воспоминания исчезли. И с тех пор уже ничего, только фантазии да надежда на какую-нибудь историю, о том, что я откуда-то пришел и могу туда вернуться, или идти дальше, не сейчас, так потом, или то же самое без надежды. Без какой надежды, это я только что сказал, надежды увидеть себя живым, и не только в воображаемой голове, увидеть себя камешком на песке под изменчивым небом, камешком, который перекатывается с места на место каждый день, каждую ночь, как будто это поможет ему уменьшаться, уменьшаться, но никогда не исчезать[33]. Нет, правда, все равно что, я говорю все равно что, в надежде, что голос устанет, голова устанет, или без надежды, без причины, все равно что, без причины. Но это кончится, придет завершение, или задохнусь, еще и лучше, наступит тишина, я узнаю, если наступит тишина, нет, я никогда ничего не узнаю. Но выбраться отсюда, лишь бы выбраться. Не знаю. И чтобы опять началось время, небо, шаги по земле, ночь, которую по-дурацки призывают утром, и заря, которую вечером умоляют не брезжить больше. Не знаю, не знаю, что все это значит, день и ночь, земля и небо, призывы и мольбы. И разве я могу их желать? Кто сказал, что я их желаю, это говорит голос, и что я не могу не желать, здесь как будто противоречие, у меня нет своего мнения. Я здесь, если они могли открыться, эти маленькие слова, поглотить меня и опять захлопнуться, то, наверно, это и произошло. Пускай же они опять откроются и выпустят меня наружу, в суматоху света, запечатавшую мне глаза, и людей, чтобы я снова попытался быть одним из них. Пускай меня помилуют, если я виновен, и разрешат искупить вину, со временем, уходя и приходя, каждый день становясь немного чище, немного мертвее. Мой грех в том, что я хотел мыслить, один из грехов, даже так, как я это делал, такой, какой есть, я не должен был это уметь, даже так, как я это делал. Но кого же я мог так тяжко оскорбить, чтобы терпеть теперь такое необъяснимое наказание, все необъяснимо, пространство и сознание, лживо и необъяснимо, страдание и плач, и даже старый душераздирающий крик: «Это не я, не может быть, что это я». Но страдаю ли я, будь это я или не я, откровенно говоря, имеет ли место страдание? Но здесь нет места откровенности, что бы я ни сказал, будет ложью, и прежде всего это не будет исходить от меня, я здесь только кукла чревовещателя, я ничего не чувствую, ничего не говорю, он держит меня в руках и заставляет мои губы шевелиться с помощью бечевки, с помощью рыболовного крючка, нет, нет, не нужно губ, все черно, никого нет, что у меня с головой, я ее, наверное, оставил в Ирландии, в кабачке, она, небось, и поныне там, лбом на стойке, лучшего она не заслуживает. Но причина того, что я здесь, причина этой черной тишины, причина того, что я уже не могу ни шевельнуться, ни поверить, что этот голос мой, — в другом человеке, слепом, глухом и немом, и этот человек — я. Это в него я должен рядиться до самой смерти, для него отныне пытаться больше не жить, в этой полугробнице, которая считается принадлежащей ему. Хотя я-то знаю, что мертв и рвусь наружу, вверх, куда-то туда, в Европу, вероятно, с каждым днем все более созревая под сосущим и гнетущим небосводом, как вчера в насосе утробы. Нет, сказанное мною убеждает меня в обратном, я никогда не видел дня, не больше, чем он, вот чисто отрицательная красота речи, в которой, к сожалению, отрицания подвергаются той же судьбе, и вот ее уродство. Выбрать удачный момент и замолчать, неужели это единственный способ иметь бытие и жилье? Но я-то здесь, хоть это наверняка, и сколько бы я это ни говорил и ни твердил, это остается правдой. Возможно, я и ошибаюсь. Не столь правильно, не столь точно то, что я говорю, когда утверждаю, что я на земле, что я появился на свет и уверен, что уйду из него, вот почему говорю я это терпеливо, на разные лады, пытаюсь сказать на разные лады, а все потому, что никогда не знаешь, может быть, дело только в том, чтобы нащупать подходящее словосочетание. Чтобы больше наконец не быть здесь, никогда вообще не быть здесь, ни раньше, ни теперь, но все это время быть там, наверху, с именем, как собака, чтобы меня могли позвать, и отличительными признаками, чтобы меня могли заметить, грудь сама надувается и опадает, задыхаясь навстречу великой остановке дыхания[34]. Словосочетание подходящее, но таких четыре миллиона, возможных или даже вероятных, по Аристотелю, который знал все. Но что я вижу, и с чем, белая трость и слуховой рожок, где это, площадь Республики, в час, когда пьют перно, ну-ка посмотрим, может быть, это наконец я. Рожок, паря на высоте уха, внезапно становится похож на паровую сирену, вроде тех, что помогают моим пароходам не спеша уходить в туман, это должно было бы уточнить эпоху, с точностью до нескольких полустолетий. Трость приближается, стуча своим железным наконечником по благородному цоколю Магазен Реюни[35], на дворе, вероятно, зима, во всяком случае, не лето. Кроме того, я смутно вижу, немного напрягшись, шляпу-котелок, ее, увы, можно было бы назвать смехотворным синтезом всех шляп, которые мне никогда не шли, а на другом конце столь же подозрительные желтые ботинки, рваные и раззявленные. Эти знаки отличия, если осмелюсь так выразиться, дружно приближаются, словно склеенные традиционной соединительной тканью, а именно человеком, останавливаются, снова идут, подтвержденные просторными витринами. Уровень шляпы и соответственно рожка дает мне представление о скромном будущем карлика или по крайней мере горбуна. Все это свободно, все это соблазнительно. Скользну ли я в этот облик, попытаюсь ли заставить их послужить мне еще раз, мои сонные немощи, чтобы они превратились в плоть и закружились, усугубляясь, вокруг этой грандиозной площади, которую я, возможно, путаю с площадью Бастилии, и даже заслужили право на соседнее кладбище Пер-Лашез, или, еще лучше, безвременно упокоились при попытке на заре перейти эту площадь. Нет, ответ будет «нет», потому что в разгар кружения, причем в самый волнующий момент, когда протягивается рука или шляпа, без предварительного пения либо другой уступки самолюбию, на террасе кафе или у выхода из метро, я буду знать, что это не я, буду знать, что я здесь, клянчу в другой тишине, в другой темноте, другую милостыню, умоляю о том, чтобы я был, или чтобы меня не стало, или, еще лучше, чтобы меня вообще никогда не было. И тщетно дряхлая рука выронит обол, и дряхлые ноги опять зашагают по направлению к смерти, еще более тщетной, чем чья угодно.