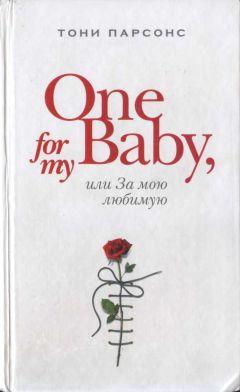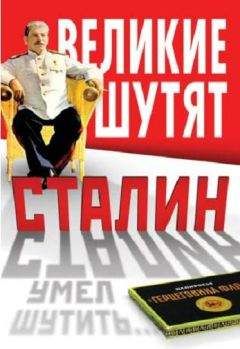Жан д'Ормессон - Бал на похоронах
…Надо признать, что Марина была чрезвычайно настойчивой девочкой. Она проделывала с матерью все что хотела, да и с другими тоже. Начавшись так поздно, наш обед на Патмосе растянулся на час. Была уже половина двенадцатого ночи, когда до Мэг Эфтимиу дошло, что пора укладывать девочку спать. Но у Марины не было ни малейшего желания идти спать одной. Последовала перепалка. Мэг повысила голос. И тогда малышка, прижимавшаяся к Ромену, встала во весь рост и бросила своей матери:
— Разве так можно разговаривать с маленькими детьми?
Больше чем с Мэг и Элизабет (я предоставлял Ромену и Ле Кименеку поддерживать их компанию) я общался с Мариной в те долгие, залитые солнцем дни моего пребывания на Патмосе. Конечно, она предпочла бы Ромена, но и мне она подавала ручку, и мы с ней отправлялись на прогулку вокруг монастыря или на пляжи острова. В то время на греческих островах, и особенно на Додеканесе, можно было встретить намного меньше людей, чем сейчас. Потому ли, что я был молод, потому ли, что Греция, о которой я так мечтал, была совершенно нова для меня, потому ли, что Марина была первой маленькой девочкой, встреченной мною, я храню яркое воспоминание о своих прогулках по острову с этим пятилетним ребенком, который отвлек меня наконец от «Этики Никомака» и «Феноменологии разума». Она говорила без умолку, перескакивала с одной мысли на другую, останавливалась на каждом шагу, чтобы рассмотреть бабочку или поднять красивый камешек, потом она торжественно приносила его мне. Взамен я рассказывал ей истории об Ариадне и Федре, о Прекрасной Елене, Улиссе, Дидоне и Энее. Я только старался, чтобы они не были слишком долгими и имели счастливый конец. Вопреки Расину и Эврипиду, моя Федра обрела счастье между Тезеем и Ипполитом, а моя Елена Прекрасная сумела (что было явно ближе к Оффенбаху, нежели к Гомеру), пустив в ход слезы и чары, прекратить Троянскую войну без особых потерь. Самые жестокие трагедии оканчивались веселыми полдниками на пляже, где все обнимали друг друга. Марина была очень довольна. Она часто пересказывала Мэг эти кровавые мифы в моем варианте и заявляла, что хотела бы провести всю жизнь с Роменом и со мной, ну и с мамой, конечно.
— Вы ее покорили, — говорила мне Мэг.
— Это скорее она меня покорила, — отвечал я. — Она просто вьет из меня веревки.
Это было накануне моего отъезда: на берегу моря, где Марина собирала ракушки, ее опрокинула и потащила за собой волна, более сильная, чем предыдущие. Девочка тут же поднялась. Ее платье вымокло, вода стекала с волос на перепачканное в песке личико. Она возвращалась домой с нами, держась очень прямо, прижав руки к бокам, этакая Офелия, спасенная из вод, полутрагическая и полукомическая, и, немного подшучивая над собой, немного декламируя, воскликнула со сдержанным гневом:
— Что же теперь со мной будет?
…Что с ней будет… Что будет со всеми нами… Мы все умрем, как Ромен, который был самым живым из нас… Но прежде чем умереть, нам надо еще пройти через жизнь, а это гораздо труднее…
…Тогда я только входил в жизнь. Остальные вокруг меня уже успели испытать на себе ее крутые повороты. Мэг Эфтимиу каждый день откладывала свой предстоящий отъезд во Францию. Я был этому только рад. Мне нечего было делать во Франции, в Париже, на улице Ульм, в Школе, в Сорбонне. Я существовал как бы вне времени. В компании с Мэг, Роменом, Мариной я отдавался своей зачарованной лени, ее питали солнце и море. Я любил море. Я любил солнце. Я слишком мало знал их до сих пор. Книги, учеба, великие умы, идеи и доктрины, темные залы кино по вечерам в компании с Авой Гарднер и Гарри Купером — все они до сих пор поглощали мою юность без остатка. Греческие острова, вторгающиеся языками в море богов, ослепили меня своими белыми домиками, своими осликами… В конечном счете я провел под сенью монастыря на Патмосе добрых полмесяца или даже все три недели. Это было самое прекрасное время в моей жизни. Я запасался счастьем…
Мы плавали, ловили морских ежей, гуляли по острову. По вечерам собирались на террасе и пели под луной на французском, греческом, английском, среди выступающих из темноты цветов. Песни моряков по-французски:
Чтобы развлечь наверняка,
Расскажем о любви девицы, —
Той, что оделась в моряка
И поступила на корабль…
По-английски:
Отец мой был испанский капитан,
И вот уж месяц как он вышел в море…
Или вот такие меланхоличные жалобы, от которых слезы наворачивались на глаза:
Когда я был студентом,
Я жил совсем один…
Однажды вечером за ужином зашла речь о далеких островах, даже названий которых я толком не знал, и эти названия звучали для меня как мечта: Калимнос… Сими… Кастелоризо… Позднее, гораздо позднее я отправился на эти острова, которым суждено было сыграть огромную роль в моей жизни. Они расположены довольно далеко от Патмоса. Особенно Кастелоризо — он вообще на краю света. Это самый южный из греческих островов. Его розовые скалы и разноцветные домики, расположенные дугой, вздымаются уже в виду маленького турецкого порта Кас, который тогда казался мне недоступным и даже скорее мифическим, нежели реальным. Калимнос, напротив, располагается на доступном расстоянии. Ромен, вероятно, начинал уже немного скучать: он откровенно высказывал желание узнать поближе эти неизведанные земли и накупить губок, которые являются гордостью этого острова. После долгих споров, которые мы вели больше для удовольствия, было решено устроить экспедицию на Калимнос.
Мы вышли в море рано утром: Мэг с дочерью, Ромен, Бешир и я — на паруснике, принадлежавшем семье. Был ли это кеч или ял, который обычно ходил на двигателе? В тот день мы поставили паруса, чтобы воспользоваться отличным ветром. Мы оставили Лерос слева по борту, и через несколько часов приятного и веселого плавания Мэг вся светилась от удовольствия, а Ромен отлично справлялся с ролью капитана, потому что умел все. Мы пришли на Калимнос.
Домики в порту в тот год были выкрашены в зеленый цвет. Каждый год, или раз в два-три года, местные власти выбирали другой цвет, и маленький городок менялся: он становился голубым, или желтым, или красным, или белым. Нам он предстал зеленым. Гостиница «Акрополис» в те времена была единственной на острове и располагала всего семью комнатами. Четыре из них уже были заняты англичанами и немцами, чьи судна мы видели, проходя мимо. Три остальные мы распределили между собой на ночлег. Лучшую заняли Мэг с дочерью, другую взял Ромен, а мы с Беширом разделили третью.
Губки действительно были. Мы накупили их целые мешки — впрок на долгие годы. Потом я долгое время мылся с ощущением возвращенного счастья этими губками с Калимноса. Вода текла по моему лицу вместе с воспоминаниями. Когда последняя стерлась до волокон, надо мной пронеслось уже много лет. С их надеждами и печалями…
Марина была в восторге. Она не страдала морской болезнью. Ей нравился корабль. Зеленые домики забавляли ее. Она резвилась в грудах губок, и я как сейчас вижу ее прыгающей в их упругих и нежных волнах. Мы плавали, гуляли, веселились на Калимносе так же, как это было и на Патмосе. Мы обедали в «Акрополисе» и с сожалением вспоминали об Элизабет, Ле Кименеке, оставшихся на Патмосе. И только один раз мы легли рано, когда Марину сильно утомил ветер с моря.
В гостиничной комнатке, крошечной, побеленной известью, лежа в постелях без сна, мы с Беширом разговорились. Под напором моих вопросов Бешир, неуверенно и даже немного недовольно, стал рассказывать мне о своей жизни. Я был ошеломлен. Целый мир — но это был совсем другой мир — ворвался в этот наш, нынешний. На Патмосе, на ночной террасе, мы созерцали луну и звезды. Эти светила расположены на разных расстояниях одни от других, и свет, который они нам посылают, доходит до нас за несколько минут, или несколько лет, или несколько тысяч лет. Так же и то, о чем рассказал мне Бешир, шло очень издалека и уносило меня тоже очень далеко…
Он родился, как он полагал, где-то на Кавказе или около, но, честно говоря, от кого — не знал.
— Ну и что же, что ни отца, ни матери, — говорил я ему смеясь, а затем, чтобы его утешить: — Это мечта многих. Родители всегда стесняют: приходится подстраиваться, чтобы им угодить.
— Легко говорить тому, у кого они есть, — отвечал он мне. — А у меня не было никого. Никого, чтобы заниматься мной. Никого, чтобы научить меня хоть чему-нибудь. И никого, чтобы любить меня. Годами я выкручивался сам, как мог. Я учился у одних, у других. В шесть лет я очутился в Ливане, где выучил французский язык благодаря милосердным сестрам-монахиням, которые меня подобрали и от которых я вскоре удрал… а может быть, это они выставили меня за дверь? Я скверно вел себя, мне нужно было выжить, и я делал все, что мог, чтобы не подохнуть. И поверьте, это не всегда было весело… И когда мне повстречалась мадемуазель Мэг, она тогда была ненамного старше, чем сейчас Марина… нет, все-таки постарше… передо мной словно открылся рай…