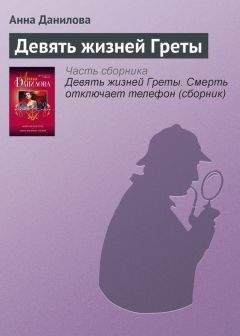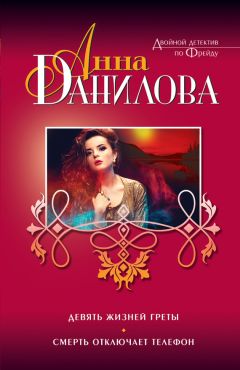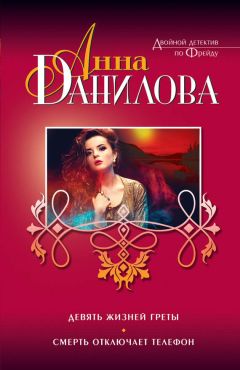Мухаммед Диб - Повелитель охоты
Последнее напоминание настигает меня, когда я, одной ногой на улице, уже закрываю за собой решетчатую калитку. Как я могу забыть? Ведь я его неизменный гость на все воскресенья. Старый колонист, который нашел во мне свежего, недавно прибывшего из далекой метрополии соотечественника. По крайней мере именно это он мне внушает.
Пройдя вслед за мной пару шагов, он возвращается к своим цветам. Снова склоняется над ними.
Я бросаю взгляд на виллу Каримы напротив. Там никого. Сделав крюк по дороге в город, захожу в лицей. Он словно вымер: коридоры безлюдны и молчаливы. Сдаю в библиотеку взятые книги. Заглядываю в секретариат: вопросы, бумаги, формальности. Интересно, что бы произошло, если бы всего этого вдруг не стало?
Итак, с преподаванием на целых три месяца покончено; да здравствует свобода.
Эмар говорит:
Я хочу извиниться; они хором протестуют. Я хочу как-нибудь им объяснить. Они с негодующими воплями отвергают мои попытки.
Разговор заходит о работе. Для меня с работой покончено, говорю я, наступили каникулы. Затрагивают другие темы. Очень быстро переходят к местным новостям. Говорят понемногу обо всем.
О моем опоздании нет больше и речи. Каждая новая тема привносит разнообразие, так что об этом все позабыли.
Говорят обо всем. По поводу каждого предмета отыскивается масса подробностей. Особенное красноречие демонстрирует Маджар. Но когда настает время охарактеризовать кого-то, он обнаруживает поразительную резкость в суждениях. Ни дать ни взять злопыхатель.
Но он, конечно же, не злопыхатель. Это все его страстность. Он невольно вкладывает страсть во все.
Он не злопыхатель. У него благородная страсть. Она может быть неверно истолкована, но она благородна. Так бы слушал и слушал его, до того любопытные он рассказывает вещи. Я не устаю удивляться.
У него дар представлять людей в истинном свете. Я хочу сказать, когда о них говорит он, их видишь такими, какие они есть в действительности. Диву даюсь, до чего они не такие, какими я их себе представлял.
С самого начала над нами витает некий вопрос или по крайней мере ожидание. Но мы болтаем, нимало не заботясь об этом ожидании или вопросе. Мы болтаем, а он остается, парит в воздухе.
В Маджаре нет ничего лицемерного.
Марта устремляет на него взгляд лишенных тайны голубых глаз, которые полны лишь невысказанным удивлением — оно тоже в некотором роде тайна.
Не отдавая себе в этом отчета, она переводит взгляд на меня. Эта тайна прозрачна, ни в коей мере не тревожна. Марта ограничивается тем, что слушает нас, слегка вытянув шею. В спокойном смущении я разглядываю ее маленький изящный нос, подстерегающий странное, которое ему чудится во всем.
Ее рот, приподнятые в уголках губы — в ожидании какого-то знака или сигнала. Сигнала, понятного лишь ей одной, от которого дрогнут в улыбке ее губы.
Ее губы даже, кажется, подрагивают, выговаривая неслышные слова.
Все это отнюдь не снимает вопроса — он все так же выжидательно висит над нами, вроде бы незаметный и вместе с тем неотвязный.
Марта поднимается, чтобы принести кофе.
Маджар облокотился о столик белого дерева, который придвинут к стене меж двумя окнами. Тарелка с остатками пищи, три стакана, половинка круглого местного хлеба, переполненная пепельница с дымящимися окурками — все это сдвигается, когда приносят чашки и кофе. Окна у них здесь чуть больше фрамуги над дверью, но и этого достаточно для того, чтобы ослепленно моргать в послеполуденном свете.
Он сидит возле окна. (Марта — напротив, возле другого окна.) Глаза его устремлены на дрожащий от зноя воздух, на квадрат неба и на гораздо более далекие лоскуты полей. В его молчании нет ничего многозначительного — такое обычно устанавливается по завершении трапезы. Когда нет надобности говорить, потому что все идет своим чередом, человек пребывает в мире с самим собой, ему хорошо, и к этому нечего добавить.
Он закуривает сигарету, вытягивает перед собой ноги.
Он пускает клубы дыма в потолок в той наигранной позе, какую принимают люди, курящие от случая к случаю. Даже и сейчас на лице его застыло напряжение. Только ли из-за того, что оно никогда не бывает в покое? Из-за лба ли, перегороженного густыми бровями и отвесно спускающегося к глазам?
Готов поклясться головой, что за всем этим благостным покоем притаилась где-то в глубине хитрость, или насмешка, или черт знает что еще. Сощурившись, он продолжает курить. Ожидание (или вопрос) по-прежнему парит над нами, еще более реальное благодаря своей безликости. Оно блуждало, витало над нами еще за обедом. Оно блуждает, витает над нами и теперь, все такое же невидимое и вместе с тем ощутимое. Оно, я думаю, даже уселось фамильярно рядом с нами, а может, чуть поодаль. Совершенно непринужденно, как если бы у него были все основания находиться тут, и нам оставалось лишь смириться с этим.
Или же сделать что-нибудь, чтобы оно перестало быть этим призраком ожидания, вопроса.
Бесплодные размышления нервируют. Может, действительно сделать что-нибудь?
Именно в этот момент Маджар выпускает один за одним три клуба дыма и безразличным тоном спрашивает:
— Вы поедете с нами в воскресенье, Жан-Мари?
Предметы обстановки. Воздух комнаты. Все застыло в молчании.
— Мы собираемся прогуляться по Улад Салема.
Мне кажется, что не в молчании, а в напряженном внимании. Говорю:
— Что за вопрос, конечно.
Значит, вот что это было.
Всего лишь это. То, чего я ждал и что он, увиливая и бродя вокруг да около, не решался сказать на протяжении двух с лишком часов; то, ради чего я сюда пришел.
Главным образом за этим. Исключительно за этим. Чтобы услышать нечто в этом роде. Это ясно. Теперь в этом уже нет ничего необычного.
— Это чтобы знать точно, — говорит он.
— Чтобы знать точно? — переспрашиваю я.
Маджар говорит:
— Ну да, черт возьми, чтобы знать точно, расположены ли вы ехать и на этот раз. Чтобы быть уверенным.
— И для проверки?
Он смотрит мне прямо в глаза. Смеется.
— Нет. Вы же знаете, что нет.
Потом добавляет:
— С вами… Нет, речь не об этом. Так даже вопрос никогда не стоял. Дело в том, что вы нам нужны.
— Вы хотите сказать, на сей раз не так, как раньше? По-другому?
— В некотором смысле — да.
Он делает последнюю затяжку. Тщательно раздавливает окурок в пепельнице, Я спрашиваю:
— А именно?
— Чтобы отыскать воду.
Я говорю: что вы сказали? Да, именно так:
— Что вы сказали?
Он улыбается.
— В самом деле, воду.
Улыбка остается. Более того, она делается более очерченной. Я гляжу на него. Я удивлен.
Перед моими глазами снова встают степи — угодья феллахов. Это он привел нас туда в прошлом декабре. Бесконечные просторы с редкой, выщипанной травой. Мы шли. Вокруг только степь да черные островки деревьев меж громоздящихся тут и там скал. И так на много лье. Каждое вади[2] являло собой скопление костных останков на чистом песчаном ложе. Ветер хлестал землю, выкачивал из воздуха последнюю влагу, гнул и ломал стебли растений. Шатался среди гор с оползнями на кручах — величественных громад, облитых ярким светом.
Но вот пустынная ясность вдруг взбаламучивается вспухающими сгустками копоти. Этот лишенный души клубок змей беззвучно корчится, образует ядро нарождающейся омерзительной мощи. Неведомо откуда подкрался сумрак. Должно быть, выполз из расщелин. Ветер снует теперь бесшумно. Источают ярость холодные огни. Горизонт отступает под натиском тени.
Зависла оранжевая полоска дня. Край земли по-прежнему отодвигается вдаль. Мы словно вступаем в царство неизвестности. Погружаемся в призрачное сияние. Оранжевая полоска дня тает.
Расстилается фиолетово-пепельная ночь, ночь без света и тени. В порывах ветра чудятся торопливые, захлебывающиеся голоса. Ноги нам царапают жесткие стебли, а лицо сечет то ли песок, то ли соль. Слепит. Я провожу ладонью по глазам: влажно. Это снег. Метель бушует, ярится, ревет. Вовлекая все в свою круговерть, она пресекает дыхание, обжигает лицо.
Нас встречают необычно широкоплечие, чернее ночи фигуры, оборотившиеся спиной к ветру. Все входят в приземистые домики, о существовании которых до сих пор никто не подозревал.
Наутро земля сверкала, словно покрытая коркой окаменелой соли. Воздух звенел морозной чистотой. Небо лучилось, глубокое и ясное.
Вышли феллахи в каких-то лохмотьях. По виду они были как большие насекомые. И по походке тоже. Все вокруг стало походить на черно-белый кошмар.
Вновь разыгрался на этих глазурованных солнцем и снегом просторах ветер, гласом медной громады отозвались горы. На порогах заплясали вихри. Лощины, высохшие русла, откосы, каменистые уступы — все это гигантское чрево было выскоблено, вычищено, выметено. Ветер снова прошелся по земле жесткой скребницей.