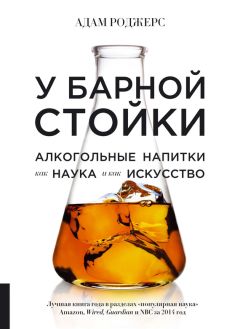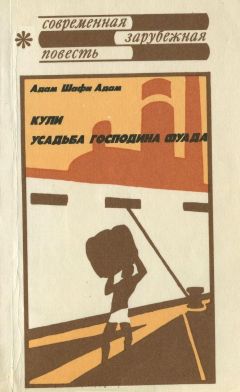Данила Давыдов - Опыты бессердечия
На двенадцатые, по моим расчетам, сутки, желудок впервые потребовал еды. Как дать знак хозяину?
Хозяин, по счастью, сам догадался: раз я жив, меня нужна пища. Служанка кормит меня, просовывая ложку с вязкой кашицей (не могу понять, что это) за язык. Глотательный рефлекс срабатывает, служанка улыбается, гладит меня по голове, как младенца.
Однажды он пришел и выразительно посмотрел на меня. Зачем вы пришли в наш город, сказал хозяин постоялого двора, мы не звали вас. О, можешь не отвечать, вскричал он тут же (будто я мог ответить), я знаю, у вас было дело, но суть этого дела слишком далека от нас. Мы никогда не поймем того, чего в принципе не в состоянии понять. Знай: не ум говорит за меня, но сердце, и он сложил руки на груди, начал раскачиваться из стороны в сторону, промычал невоспроизводимый мотив, который будет существовать в моей памяти всегда.
Вошла служанка и прошептала хозяину на ухо несколько слов. Весна идет, послышалось мне, звери спущены с цепей… Я понимал общий смысл, но не мог найти точный эквивалент на родном мне языке; так, говоря о весне, служанка имела в виду не весну вовсе, а нечто радостное и всеобъемлющее, неминуемо грядущее – во имя благополучия горожан – и, тем не менее, вовсе не окончательное и требующее в дальнейшем замены на что-то еще более достойное внимания толпы; то же и зверь, судя по всему, представлявшийся и служанке, и хозяину даже не вполне существом, а, скорее, полуразумной и агрессивной субстанцией (при чем здесь множественное число – было совсем уже непонятно). Хозяин выслушал служанку с одобрением, кивнул в знак согласия (я научился различать их жесты, мимику, тайные знаки – не в полном объеме, разумеется, но в количестве, достаточном для поверхностного – и тем самым в большой степени иллюзорного – понимания); служанка мельком взглянула на меня и юркнула в полуоткрытую дверь.
Хозяин думал. По выражению лица чувствовалось охватившее его мозг интеллектуальное напряжение. Он ходил по комнате (крови моих спутников не осталось на коврах, да и ковры те, собственно говоря, были унесены неизвестно куда и заменены новыми), взад-вперед, что-то беззвучно бормотал, будто читал молитву, и – кто его знает – может, действительно молился своему частному божеству о перемене участи, ибо таковы молитвы многих во многих землях. Час спустя хозяин прекратил неспешную суету и остановился передо мной. Знаешь ли ты, сказал он, свою судьбу? И усмехнулся, словно произнес нечто мудрое и остроумное одновременно.
Если бы я мог говорить, думал я в это время, я попросил бы у него принести сюда клепсидру, самую большую в городе, и поставить напротив моих глаз, пусть раб или служанка следили бы за неизменностью работы утекающей в прошлое воды. Хозяин рассказывал мне в это время местную сказку – про волка и кабана, про то, как они носились друг за другом по степи, так ни разу друг друга не увидев. За окном раздался скрип, наверное, телега проехала мимо.
Рассказать тебе, что с тобой случится дальше, неожиданно сказал хозяин, хочешь? Тебя повезут по селениям показывать, как удивительного урода. Он опять усмехнулся.
Хозяин приводил ко мне разных людей и они разговаривали со мной, чаще ласково, реже недоуменно, еще реже грозно и почти никто – заинтересованно. Я, очевидно, представлялся им лишь фикцией, неудачным розыгрышем, на котором стыдно задерживать внимание. Быть может, чуть ли не все они приходили сюда лишь из уважения к хозяину постоялого двора. По большей части это были люди образованные, сведущие в медицине и поэзии, астрологии и земледелии; они всегда смотрели в сторону, когда произносили нечто похожее на соболезнование (как не пожалеть меня!), и расслабленные руки их случайными движениями не выдавали таинственных душевных переживаний.
Вскоре визиты прекратились. Хозяин почти перестал общаться со мной (воистину, общение с попугаем или котом было более продуктивным). Я лежал, вслушиваясь в отголоски творящегося за стенами; безусловно, ковры превосходно изолировали звук, но мои чувства необыкновенно обострились. В сущности, мне можно было отрезать уши, я все равно ощущал бы малейшее дуновение ветра на улице или бег муравья внутри стены – поверхностью тела, соприкасающегося с иной, мертвой поверхностью (ковер прекрасно передавал малейшие колебания пола, в некоторой степени даже усиливая их). Служанка ежеутренне губы мои утирала пухом неизвестного зверя.
Потом случился пожар. К тому времени я разучился спать и никто не желал видеть меня.
Огонь в одночасье охватил постоялый двор со всех сторон; похоже, поджигателей было четверо или пятеро. Никто не пришел в комнату, украшенную коврами, и когда пожар добрался до этой комнаты, ковры вспыхнули и слева и справа от меня, но до этого я увидел, как малейшую долю секунды ковры висят над огнем, целые и невредимые (и тут же они перестали быть таковыми), – так я узрел возможность не зависеть от тяготения, поэтому, когда пламя охватило мое тело, мне не пришлось умирать, напротив, я плавно опустился на первый этаж, так же обреченно сгорающий, как и остальные признаки действительности, окружавшей меня (кроме меня самого), лишь чуть ударился о балку, но даже не почувствовал боли, ибо не остался в равновесии, побуждающем к самосознанию, а покатился, как все та же балка, и так мы подражали друг другу, пока не вынесло нас из постоялого двора, и из сада, где сливы, по человеческому обычаю, отвернулись от меня (вот и хорошо, пришло в голову, они не узнают, кто победитель в наших с балкой соревнованиях), и тут деревянная спутница моя встретилась с заросшим прудом (огонь погиб, но сама балка навеки, следует думать, погрузилась в водоем неизвестной глубины), я же, сшибая дикорастущие цветочки (дикорастущие – потому что некому теперь следить за ними), вбирая в себя всей кожей конфигурацию камней – вылетел за ворота, как всегда широко распахнутые, – прямо под ноги горожанам, пришедшим познать чужое горе. И не знаю кто погасил пламя на теле моем и накрыл меня мокрой тряпкой, во спасение, полагаю.
В полной темноте очнулся я, и ожоги явственно указывали на свое существование. Я не слышал ни звука, ни ползвука, и то, на чем я лежал (не ковер – однозначно), не желало пропускать сквозь себя колебания окружающего пространства. Так я лежал долго, но не настолько, чтобы потерять понятие о времени. Затем появились шепоты, они пытались втолковать мне что-то на неизвестном языке (а может, я просто потерял умение понимать, не обучаясь). Пытаясь представить разговаривающих со мной, я терялся в догадках; конечно, черты их лиц должны были оказаться человеческими (при всякой иной мысли я покрывался холодным потом), но подробности, то, что отличает всякое от всякого, совершенно не поддавались выявлению. Личности хотелось мне, личности! – я тосковал по хозяину постоялого двора, одностороннее общение с которым терялось в воспоминаниях – ведь темнота была и в прошлом, и в будущем, а настоящее вообще отсутствовало. Периодически я засыпал, точнее – погружался в тяжелую дрему без сновидений.
Наконец, рассвело (я говорю так, потому что к тому времени окончательно уверил себя в конечности этой тьмы – ну, не может же тьма быть бесконечной, – ибо иначе жить не представлялось возможным, а жить хотелось). Мое тело покоилось на траве; вокруг не было никаких примет человеческой деятельности; несколько чахлых деревьев в отдалении, тучки над горизонтом, трава, трава, трава. Я сказал себе: встань и иди, и встал, и пошел – прямо, пока не уткнулся во что-то твердое. Тогда я понял, что пейзаж был нарисован на стене, и я все так же в плену неизвестно у кого. Приглядевшись к рисунку, я изумился тому искусству, с которым меня обманули. Живая трава, растущая на полу комнаты (если это была комната, а не что-либо, чему нет названия на привычном мне языке), на первый взгляд, ничем не отличалось от своей имитации, и найти ту грань, где она заканчивалась и начиналась стена, с помощью одного лишь зрения казалось невозможным. Вытянув руки, как слепец, я ощупал пространство вокруг себя. Судя по всему, я находился в не очень обширном помещении. Свет, лившийся сверху, был слишком ярок, чтобы различить его источник; но, привыкнув к нему, я почувствовал его отличие от солнечного. Так я провел в этом месте довольно долгое время; иногда доносилось слабое дуновение ветра, впрочем, это могло мне только казаться. Потом свет начал тускнеть, плавно, словно действительно наступал вечер. По траве, той, что росла на полу помещения, прополз жучок, желто-зеленый, с черными крапинками; я был готов дать голову на отсечение, что это насекомое приползло откуда-то извне, иначе я бы заметил его много раньше. Будто издеваясь надо мной, по моей ноге прополз другой жучок, теперь – темно-синий, с отливом. Я поймал его, сжал в кулаке и минуты три вслушивался в судорожный гуд, издаваемый пленником. Вдруг всякая деятельность внутри кулака прекратилась, я разжал его и обнаружил жучка лежащим на спине, лапки кверху; я не стал раздумывать, было ли это уловкой или насекомое и впрямь отдало концы, и отбросил тело в сторону. Раздался еле слышный стук, жучок ударился о невидимую стену. Совершенно непонятно было, почему ничто здесь, кроме меня, не отбрасывало тени; я приписал это мастерству создавшего подобное помещение конструктора.