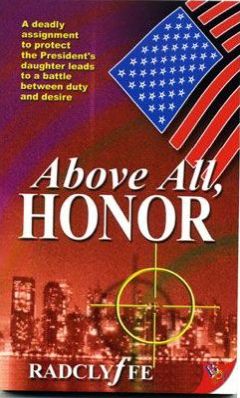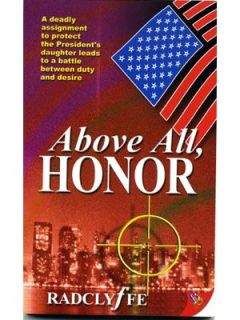Роман Савов - Опыт интеллектуальной любви
Мы вошли во двор девятиэтажек, когда нас обуяла похоть. Мне хотелось овладеть ею здесь же. Она, желая столь же сильно, предложила пойти в подъезд к Ольге, которая работала вместе с ней в "Жени". Когда я развернул Настю спиной, чтобы хоть как-то утолить страсть, дверь распахнулась на первом этаже и полоса света ударила по нашим полураздетым телам. Женский голос спросил, кто здесь, но мы притаились, пытаясь спрятаться от света, сдерживая смех.
— Настя, это ты? — Ольга отличалась удивительной проницательностью.
Мы вышли на улицу, трясясь одновременно от холода, возбуждения и смеха.
Когда тела соединились, возбуждение исчезло, открыв черед ассоциативным рядам. Я перестал любить ее, перестал желать, я начал думать.
Было холодно, и я думал о том, что уже поздно, что мы не расстанемся, что я уже не пьян, что нас, наверняка, видела Ольга, что придется идти через весь город, что я не высплюсь, что поведение Насти странно, что роза, наверное, завяла, что я, наверное, знал: все произойдет именно так…
Мы лежали на огромном бревне. Насте было неудобно. Я все время мечтал о такой женской одежде, которую не надо было бы снимать. Взять бы Настю в такой одежде, поднять юбку, и в тепле наслаждаться ее телом. Когда все было кончено, стало неловко: мы, дрожащие от холода, хотели бы полежать здесь, согревая друг друга, но в таком виде и в таком месте это было нелепо.
Но и среди глубины падения сознание того, что я не ушел на самое дно именно из-за нее, из-за причины гибели, не покидало меня. Это был парадокс. И эти розы, обреченные на смерть, были выражением парадокса. Они были прекрасны, как сама жизнь, но они уже были мертвы, как сама смерть.
Мне нужен только повод, чтобы уйти побыстрее. Но куда? Мне некуда идти. Кроме нее, у меня никого не осталось. Это пат. Королю некуда идти. Мне остается только мучить ее в отместку за сомнения, которые снова одолевают разум.
— Смотри, какие у меня зве-звездочки на пальчиках, — сказала Настя детским умильным голосом, который должен был напоминать мне Мамонтенка из мультфильма.
Я разглядываю ее ногти, напоминающие чудовищные когти китайских императоров. Они бордового цвета с цветными наклейками на мизинцах. Выглядит это, может быть, и красиво, но к подобной эстетике следует еще привыкнуть.
Сегодня она выглядела молодо. И эта молодость в сочетании с укоренившимся развратом мучила меня. Я жалел ее, мне хотелось что-нибудь сделать, но я ничего не мог.
— Очень прелестно. Позволь только задать лишь один вопрос, Настя. Как такими руками ты будешь делать массаж? Мне кажется, тебе не только работать будет не сподручно, но и ложку-то держать!
В этот момент открылась дверь и вошла хозяйка салона с мужем. В очередной раз он бросил на Настю любопытно-похотливый взгляд. Потом с таким же любопытством посмотрел на меня.
А я в очередной раз поймал себя на мысли, что не могу ревновать, потому что у меня завышена самооценка. Он был моим ровесником, но выглядел сорокалетним, изрядно располневшим, одутловатым, неотесанным, похотливым. Натуральный фавн. Я не мог ревновать.
И еще. Я был человеком Нового времени.
Они решили финансовые дела, мы распрощались, и Женя пригласили нас отпраздновать Новый год. Я вежливо отказался за обоих, подумав о том, как бы изменился ход времени, если бы я согласился. А также о том, является ли их предложение данью вежливости.
— Видел, как он смотрел на меня?
То ли ей хотелось, чтобы я ревновал, то ли она сознавала, что выглядит, как богиня, по-сравнению с этой бизнес-леди. Может быть, для нее ревность была свидетельством любви? Или она проверяла меня?
— Можешь догнать их и отправляться праздновать. Я еду домой.
— Ты чего?
— Ты ничего не хочешь видеть. Ни усилий, затрачиваемых мною, ни моей любви. Ты думаешь только о ногтях. Я понимаю, что "можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей", но не обольщайся, Настя, ты — не красавица. И потом, с кем ты себя сравниваешь, с этой Женей? Может быть, и меня хочешь сравнить с этим фавном? Опомнись, Милка. Я ухожу.
Она достала ацетон и при мне стала смывать лак. Мне было смешно и грустно. Она смывала лак, но акриловые ногти оставались ее достоянием. Лак можно будет нанести уже завтра и наклеить все, что угодно. Сколько она потратит на это? В любом случае, не больше пятидесяти рублей. Слезы ее не стоят и половины… Переживает ли она? Способна ли она вообще переживать? Общаясь с ней, я теряю остатки ума.
— А волосы? — устало говорю я.
— Что волосы? — спросила она сквозь слезы, не понимая, к чему я клоню. Она будто очнулась, будто спектакль кончился и начался новый, только она не уследила за этим.
— Смывай и с волос, — я доводил игру до абсурда.
— Но на улице мороз. Если я намочу голову, то не смогу выйти, — она говорила неуверенно.
— Расчесывай.
— Помоги мне, — сказала она горько, причем слезы полились пуще прежнего.
Я драл расческой по волосам, едва не рыдая от пафоса происходящего. Я понимал и понимал очень ясно, что с ней надо кончать, но я так любил ее!
Бросив расческу, я обнял ее. Мы прижались друг к дружке так сильно, будто бы сердца хотели прорасти друг в друга.
Неужели женщина никогда не сможет рассматривать мужчину, как друга, а не как соперника? В этом виноваты мы, мужчины, обрекающие женщин на выживание. Когда же они приспосабливаются, научившись не доверять никому, научившись использовать условия для наилучшей маскировки (ибо это — единственный способ выжить), мы упрекаем их в неискренности. Этот порочный круг никогда не будет разорван. Это диалектика добра и зла. Деятельное добро ничем не отличается от зла. И способ один — непротивление злу силой. Но тогда — анафема, как в случае с Толстым. Равным образом и здесь. Единственный способ — абсолютное доверие одного из людей, но это неизбежно приведет к обману. Быть добрым, значит, быть глупым и обманутым. Или еще есть путь Гао? Настя предложила. Она всегда изобретает что-то новое.
Автобус был полон, как всегда. Они рассматривают меня, да и ее тоже, будто бы в нас есть что-то ненормальное.
Я думаю обо всем этом, думаю также о Новом годе, о пьяных, окружающих нас, об отце, о старости, не о своей, а о его, о маминой. Если в период "Прелюдий" меня тревожила смерть, то теперь меня беспокоит старость.
Я рассматриваю ее спокойное лицо, думая, что инфантильность хороша, так как она препятствует рефлексии. Настя — интересная личность: она рефлексирует, и довольно часто, но она рефлексирует о других, а не о себе. Парадоксы наименования.
Неожиданно появляется детское воспоминание о летнем лагере: я иду по полю, собираю початки кукурузы и ем, ем, ем, причем никто не запрещает, никто не ругается, а потом едем в какой-то областной город и ходим по музеям. Вечером можно будет ловить ящериц, и они не будут отдавать свои хвосты, а потом мы поймаем ежика…
Я спрашиваю, цело ли ее выпускное платье.
Теперь оно ей мало. Я вспоминаю, как патриарх Маркеса ловил подставных школьниц-нимфеток, выглядевших, должно быть, как Настя сейчас, и вожделею ее.
Она будто ждет этого. Она всегда ждет. Я довожу ее до оргазма, прижав к межкомнатной двери.
Когда ее сестра заходит к нам, лукаво улыбаясь, мы ведем себя, как ни в чем не бывало.
Играет музыка — органная токката и фуга ре-минор, напоминая, что я человек, как и она, как и все мы. И что лжи не будет, и настанет царство Истины. Торжество разума — это Бах. Божественный разум любви. Мне внезапно открывается, что я полюбил ее, когда познал. Ведь этим словом в Библии обозначается и половой контакт. Разве можно любить, не зная? Что же, мы знаем Бога? Или не знаем и не любим?
Когда-то, после того, как сбылось пророчество, и я поступил в университет, во дворе учебного корпуса я увидел старика с собакой: у собаки не было обеих задних лап. Она прыгала по двору, виляя хвостом и чему-то радуясь, а он задумчиво смотрел ей вслед. Когда они пошли домой, собака нерешительно остановилась перед калиткой — там была высокая ступенька. Старик подошел к ней, решительно поднял за хвост. Собака перепрыгнула через порог.
Мне подумалось, что это любовь. Забота без жалости. Взаимопонимание. Еще долго я думал о любви так.
После знакомства с ней мне кажется, что любовь — это познание и разум.
Если в армии весна казалась мистическим спасением ото всех зол, то теперь я даже не заметил ее приближения. Жизнь превратилась в цепь постоянных усилий. Все чаще вспоминался Чехов и Гоголь с их представлениями о жизни, как о явлении скучном и страшном. Я будто оторвался ото всех привычных представлений и взглядов, ото всех друзей, чтения, образа жизни. Я делал то, что раньше считал мещанским и пошлым, я делал то, что не имело смысла, не писал и не читал, ни к чему не стремился. Даже любовь казалась абсурдной. Я даже не пытался узнать причину этого состояния, отягченный безысходностью. Я перестал даже мечтать. Любовь к Насте стала привычной и воспринималась как нечто само собой разумеющееся.