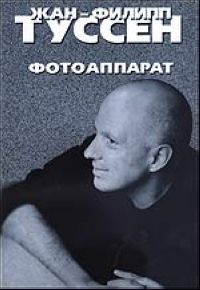Жан-Филипп Туссен - Фотоаппарат
Когда во второй половине дня мы вернулись в автошколу (без газа, само собой, лучше и не спрашивайте), перед закрытой дверью она увидела своего отца в каракулевой шапке-ушанке и с хозяйственной сумкой в руках. Господин Полугаевски, которому она меня представила тут же на тротуаре, человек скорее тучного сложения, с широкими славянскими скулами и заметным русским акцентом, выслушав объяснения дочери, прикинул вес своей сумки и предложил, отбросив все дела, немедленно отправиться с нами за газом в Кретей (вперед, дети мои, сказал он, приглашая в свой автомобиль — разболтанный донельзя «триумф»). Торговый центр в Кретее все никак не показывался на горизонте, и, пока г-н Полугаевски гнал свой «триумф» по окружной, я дремал на заднем сиденье, чувствуя, что внешняя реальность не только не собирается сдаваться, но постепенно затвердевает, каменеет, обступает со всех сторон, и мой бешеный порыв представлялся мне теперь не чем иным, как попыткой высвободиться из каменного плена. Рюмочка мюскаде пришлась бы сейчас очень кстати. Я сидел бесстрастный, полусонный, тихонько посмеивался в душе, in petto, так сказать, не мешая событиям течь своим чередом, и думал о том, что во всей этой истории больше и мизинцем не пошевельну. По прибытии в торговый центр Полугаевски отправился выяснять насчет газа; предоставив ему объясняться у входа с продавщицей, хмуро взиравшей из-за стойки на размашистые рыцарские жесты, сопровождавшие его цветистую, с раскатистым акцентом речь, я потихоньку ускользнул и пошел в магазин поглазеть, а там, после недолгой внутренней борьбы, поддался искушению приобрести пачку одноразовых станочков и пену для бритья. Стоя в очереди в кассу, я заметил господина Полугаевски — он изучал объявления у входной двери и, не подозревая, что я за ним наблюдаю, как раз переписывал в записную книжку какой-то телефон. Я сунул покупки в полиэтиленовый пакетик и подошел к нему. В последний раз сверив данные объявления с записью, он с тайным удовлетворением во взгляде закрыл записную книжку и сказал, что газ выдают на станции техобслуживания у въезда на автостоянку. Мы поменяли баллон, уложили его в багажник и укрылись от дождя в машине, ожидая возвращения дочери господина Полугаевски, отправившейся за покупками. Я сел на переднее сиденье, Полугаевски — за руль, в его открытую дверь я видел лужу, куда капля за каплей падал дождь. Из автомобильного радиоприемника лилась нежная грустная песня, мы сидели молча, время от времени качая головой, словно бы сострадая. Между тем Паскаль все не возвращалась, а песня звучала все надрывней, и Полугаевски, не выдержав, повернулся ко мне за поддержкой. Да что она там делает, буркнул он, выходя из машины, и, засунув руки в карманы, принялся поджидать дочь стоя. Минут через десять как ни в чем не бывало появилась Паскаль с огромной коробкой продуктов в руках. Я освободил ей место, пересел назад, коробку поставил рядом с собой, а отец в это время заводил, вернее, пытался завести машину (не заводится, сказал он). В конце концов мы с его дочерью — миленькая семейка — вылезли из «триумфа» и стали под дождем толкать автомобиль, следуя противоречивым указаниям господина Полугаевски, а тот, высунувшись из окна, обвинял нас в нерадивости. Поскольку все наши усилия ни к чему не привели, решили действовать иначе: Паскаль села за руль, а мы с ее отцом, развернув машину по наклону, встали с обеих сторон и снова начали ее толкать; иногда она многообещающе вздрагивала, тогда мы, удвоив усилия, кричали Паскаль, чтобы жала на газ, — и так, пока вконец не промочили ноги и не бросили это занятие. Ну что? — спросил отец, заглядывая к дочери в окошко. Дохлый номер, отвечала она.
Спокойно, теперь уже не напрягаясь, даже расслабившись, мы докатили машину до станции обслуживания. Я толкал ее сзади двумя руками, а Полугаевски, чуть пригнувшись и тяжело дыша, шел рядом со мной, прикрываясь от дождя моей газетой, и объяснял, что все, черт побери, от сырости (да, соглашался я, глядя, как намокает моя газета у него на голове). Приближаясь к станции, мы увидели там человека, продавшего нам газ, — сомнительный тип, тощий, с сальными волосами, он смотрел на нас с выжидательной настороженностью и подозрительно обнюхивал свои пальцы. Мы остановились перед бензоколонкой и, поведав ему о наших злоключениях, спросили, не может ли он взглянуть на мотор. Нет, он не мог, это не по его части, но механик должен был скоро прийти, а потому он пригласил нас подождать у него в будке. Войдя, он сел за свой стол возле видавшего виды велосипеда с потертым багажником, мы с господином Полугаевски на складных матерчатых стульях устроились напротив, а Паскаль осталась задумчиво стоять у окна. По стенам висело несколько афиш и календарь с рекламой аперитива. Молчали и мы, и хозяин, последний не обращал на нас внимания. Он достал из ящика комплект палочек для игры в микадо, взял их в руку поудобнее, потом плавным движением кинул на стол и стал собирать по одной. Время от времени мы с ним заговаривали, высказывали предположения относительно возможных причин поломки. Он всякий раз сосредоточенно кивал, скептически приглядывался к груде беспорядочно наваленных палочек и соглашался, что, может, дело и в стартере, да. А может, свеча, и в течение нескольких секунд он напряженно обдумывал ситуацию, потом быстрым, точным движением ухватывал пальцами одну из палочек (попалась, которая кусалась, приговаривал он и аккуратно клал палочку рядом с собой). Полугаевски наблюдал за ним, нахмурив брови, я же, достав из кармана пакетик с бритвенными принадлежностями, поглядывал на умывальник и размышлял, не побриться ли мне, коль скоро я не успел утром, и как отнесется к этому газовщик. Когда я спросил, тот восторга не выразил, нет, однако оторвался на мгновение от микадо, передвинул велосипед и, уже снова углубляясь в игру, чуть потеснился, давая мне пройти. Поблагодарив, я обошел его стол, разложил на умывальнике станочки и тюбик с пеной, расстегнул ворот рубашки, погладил себя по груди, осмотрелся. Карманное зеркальце, которое дала мне Паскаль, я пристроил на гвоздике; разумеется, мне было тесновато, приходилось стоять на цыпочках рядом с игроком в микадо, дотягиваться, изгибаясь, до крана, чтобы сполоснуть бритву, ухитряясь при этом бросить взгляд на расположение пестрых палочек на столе. В верхнем углу висевшего передо мной зеркальца я видел Паскаль, она смотрела в окно, между тем как ее отец, придвинувшись на своем полотняном стульчике к столу, отпускал по ходу игры нелестные замечания и гневными тычками пальца советовал тянуть ту палочку, а не эту. Игрок же, которого я, водя туда-сюда лезвием по щеке, видел в нижней части зеркала, держался осмотрительно и не решался тронуть ни одну. Побрившись, я собрал свои вещи, надел рубашку (такая вот душевная обстановка) и вышел подышать воздухом, смахивая с мочек остатки мыльной пены. Вскоре ко мне присоединился Полугаевски, мы постояли рядом, высматривая механика. Полугаевски выглядел очень расстроенным, «триумф», полагал он, по-видимому, все равно придется оставить здесь на ремонт, а потому не лучше ли нам, чем дожидаться механика, уехать на такси. Можно позвонить? — спросил он хозяина будки. Тот с важным видом поднес указательный палец к губам, призывая Полугаевски помолчать, в последний раз пристально вгляделся в расклад палочек на столе и с бесконечными предосторожностями принялся вытаскивать одну из них, легонько надавив на ее кончик, отчего, следуя принципу рычага, приподнялся другой. Положив вынутую палочку перед собой, он пододвинул телефон господину Полугаевски.
Некоторое время спустя, отказавшись от попытки вызвать такси (извините, свободных машин нет), Полугаевски договорился, что оставит «триумф», уладил все формальности, передал газовщику ключи от автомобиля и, оплатив четыре бесполезных звонка по вызову такси, спросил, не возьмет ли он назад баллон с газом, поскольку мы и без того порядочно нагружены. Тот посмотрел на него, задумчиво постукивая палочкой микадо по ладони, и предложил оставить баллон в багажнике автомобиля, а затем, проводив нас на улицу, заостренным кончиком палочки указал еще раз, в какую сторону идти к метро. Стоя на пороге своей будки, он смотрел, как мы плелись под дождем: Полугаевски с коробкой продуктов, я с пачкой бритв, Паскаль с автомобильным радиоприемником — папаша предпочел его вынуть. Так мы дошли до торгового центра, распахнули двойную стеклянную дверь, за которой нас обдало струей горячего сухого воздуха, и двинулись по центральному ряду. В галереях толпился народ, перед дверьми отделов красовались на стойках уцененные товары, секция садового инвентаря предлагала какие-то скукожившиеся деревца. Миновав множество разных магазинчиков, мы прошли вдоль парикмахерской, где женщины в огромных колпаках-сушилках — здравствуйте, милые дамы, — чувствуя, что на них смотрят, старались состроить на лице умное выражение. Выйдя из торгового центра, мы в замешательстве остановились, не зная, куда направиться, а потом двинулись по вымощенной булыжником улочке с натыканными через равные промежутки стилизованными фонарями, неуместными среди новостроек и оттого казавшимися бутафорией. В целом же холодная безликая архитектура района походила на гигантский макет, по которому нам позволили прогуляться между двумя рядами зданий. На горизонте торчали сооружения из стекла и металла, а по бокам устремлялись в небеса одиноко стоящие билдинги с темными окнами из тонированного стекла. Сбившись, должно быть, с пути, мы брели улочкой, круто уходящей вниз по бесконечному склону, и тут нам открылся вид на огромное искусственное озеро, замыкавшееся на горизонте гризайлью индустриальной зоны с гигантскими кранами и заводскими трубами, выбрасывавшими в небо столбы черного дыма. Территория вокруг озера была оборудована для отдыха и досуга, улицы и променады щеголяли названиями, перенесенными с юга Франции, и на этом лишенном растительности забетонированном пространстве стоял безлюдный ресторан с никчемной террасой, на которой мокли свернутые солнечные зонтики. Ленивые, словно обессиленные, воды озера терялись в сероватой грязи так называемого пляжа, переходившего в пустырь, где маячил шаткий сарай на сваях, перед дверьми которого валялись серфинговые доски, а рядом в нежной мокрой траве поломанный рей. Поодаль на пляже лежали серфинги поновее, а на безжизненном водоеме, окутанные дымом и осененные изморосью, несколько серфингистов в комбинезонах для подводного плавания замерли в отсутствие ветра на неподвижно застывших досках и время от времени пытались набрать скорость, равномерными рывками дергая парус на себя, в результате чего им удавалось немного продвинуться по туманной глади в тени нависшего над озером гигантского металлического железнодорожного моста. Мы спустились к самому берегу и под дождем шлепали вдоль озера, увязая в расползающемся под ногами грязном песке. Низко-низко над нами летел вертолет, и, задрав голову, я думал, что сверху, наверное, любо-дорого смотреть, как мы шагаем гуськом по пляжу — впереди Полугаевски с коробкой, за ним я, мечтательно-отрешенный, в пальто с поднятым воротником, позади — Паскаль, небрежно волочащая за собой подобранную на берегу сухую ветку. В действительности же Полугаевски просто искал, к кому бы обратиться, чтобы спросить дорогу, и, подойдя к берегу, остановился против пожилого мужчины хрупкого телосложения, который, стоя в воде по пояс в облегающем черном комбинезоне подводника (с короткими рукавами) и нелепом спасжилете, опутавшем его тщедушное тело сетью шнурков и завязок, спускал на воду серфинг. Поглядев на него с минуту, Полугаевски подошел ближе к воде, держа в руках коробку с продуктами, и, возвысив голос, спросил, не знает ли он, где тут станция метро. Тот, по-видимому, что-то недопонял, а потому, положив обе ладони на доску, как это принято у великих серфингистов, подошел ближе к берегу и, выслушав вопрос во второй раз, проворно замахал рукой: дескать, надо подняться по улочке вверх и у торгового центра свернуть налево. И пяти минут не будет, добавил он, осторожно взбираясь на доску сначала одним коленом, затем другим, потом встал во весь рост и потянул на себя тяжелый парус (не успели мы отойти, как он плюхнулся лицом в воду — в довершение всего серфингист из него был никакой).