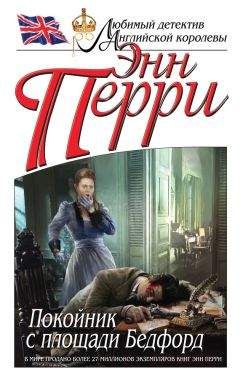Олег Лукошин - Человек-недоразумение
Жизнь моя и учёба мало отличались от того, что было раньше. Изменения произошли лишь в том плане, что я стал немного отвечать на уроках и готовил кое-какие задания, ибо понял, что в среде, где уроки не учит каждый и делает это не из каких-то далеко идущих целей, а просто от глупости, совершать то же самое смешно. Никто, включая меня самого, не воспримет мои действия как целенаправленную социально-философскую акцию.
Из всех осознанных и предельно публичных действий тех первых школьных лет, настоящих протестов, ярких и в некотором смысле художественно выверенных, наиболее запомнился мне один. Тогда шёл ноябрь тысяча девятьсот восемьдесят второго года, я был учеником второго класса «в» (как известно, литера «в» даже в обыкновенных средних советских школах всегда обозначала класс наиболее проблемный по части интеллекта в параллели; какие же трагические глубины абсолютной безнадёжности скрывала она в школе для отстающих!), вяловатым, совершенно бестолковым, как с виду, так и внутри (бестолковым, бестолковым, не надо себя утешать — я не был придурком, но я ещё чрезвычайно много не понимал ни в себе, ни в зловещих переливах реальности) — как вдруг умер Брежнев.
Должен признаться, что я всегда любил дедушку Брежнева. Он безусловно лучший правитель нашего государства (которое даже как общественно-политический институт — величайшая управленческая ошибка в истории человечества, ну, а уж как объективная данность — и вовсе дичайшая несуразица) за все годы его существования. Я не раз слышал мнение, что только при нём люди пожили более-менее спокойно. Мне трудно уловить смысл слова «пожили» в данном контексте: по всей видимости, он не заслуживает моего восхищения и в корне расходится с моими идеалами существования, но и не из-за мнения окружающих нравился мне Леонид Ильич. Был он каким-то — по крайней мере, в моих глазах — абсолютно несуразным, в высшей степени чужеродным образованием во всём этом пантеоне советских политических деятелей. Словно он, будучи персонажем из мультфильма про Винни-Пуха, будучи самим Винни-Пухом, взял да и переместился волшебным образом в научно-популярный фильм о технологии изготовления цемента.
Всё это мне довелось осмыслить позже. Это я сейчас, взрослый, битый, будем считать, не сломленный и кристально ясный в понимании бессмысленной, как всё остальное, верности многолетнего, весьма рискованного образа жизни, выборматываю все свои умозаключения и стародавние наблюдения в пустоту, а тогда, в дремучем детстве, я тянулся к Леониду Ильичу просто по причине детской, этакой щенячьей непосредственности. Видимо, я всё же должен был к кому-то тянуться, совсем без этого нельзя. Брежнев подходил как нельзя кстати — он был смешон и несуразен, как и я, а значит, мы были одной крови.
С какого-то неслабого хрена идиотский урок идиотской математики был прерван, и весьма разочарованных и даже растерянных тем, что вместо традиционного дуракаваляния приходится маршировать рядами по коридорам и лестницам, пошатывающихся не то от усталости, не то от хронического слабоумия дебилов-второклассников повели в спортивный зал. Туда же почти такими же стройными, пошатывающими рядами подползали и остальные школьники коррекционного учебного заведения, с первого по восьмой класс (восьмой был последним; девятый и десятый как очевидная платформа для поступления в институт в коррекционной школе отсутствовали — дебилам в высшую школу ходить не рекомендовалось).
Такого на своей памяти не помнил никто: собрать в спортзале разом всю школьную братию — это было как-то чересчур даже для дебилов. Мрачные, напряжённые, потерянные, они всматривались в таких же напряжённых и потерянных (мрачными они были постоянно) учителей, всматривались друг в друга, и с каждым новым взглядом терялись всё больше. Ни кукареканья, ни изящного матерного словца не разносилось над сводами помещения. Все были (представьте только — ещё не подозревая о случившимся!) траурно молчаливы.
Никого не пришлось успокаивать, когда на середину зала выползла директриса — потрёпанная, морщинистая, уже почти целиком седовласая, но довольно шустрая тётенька. Все поняли вдруг: сейчас на них обрушится Страшная Правда. Правда из жизни страны, которая, как известно, часть нас самих, правда яростная, неистовая и беспощадная.
Вы удивляетесь тому, что дебилы способны так тонко чувствовать переливы общественной жизни? О, не стоит недооценивать дебилов! Именно они и ощущают эти самые переливы наиболее болезненно. Собственно говоря, именно они и порождают эти самые переливы, становясь Капитанами Общественной Жизни, Погонялами Тучных Человеческих Масс и вообще всякими разными Благодетелями, Несущими Неугасимый Свет. Вряд ли я буду первым, кто скажет, что именно дебилы в конце концов становятся правителями государств. Это не эмоциональная оценка обиженного жизнью человека, ничуть, это всего лишь усталая констатация факта.
— Ребята! — тихо и выразительно молвила директриса. — Произошло нечто страшное… Умер Генеральный Секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев.
Вся школа, все несколько сот человеческих тел и душ, вздрогнули. (Я полагаю, их было штук пятьсот, не больше — всё же коррекционная школа насчитывала значительно меньше учеников, чем обыкновенная общеобразовательная.)
— Это невыразимо трагическое событие, — продолжала тётенька, — в жизни нашей страны. Мы, весь советский народ, в одночасье осиротели. Честно вам скажу: когда сегодня утром я узнала эту новость, мне стало страшно.
Невыносимо страшно становилось и дебилам.
— Меня словно бы оставил родной отец. Человек, который заботился обо мне и оберегал.
Думаете, директриса паясничала или говорила сознательную неправду в силу своей должности, неправду, которую вынуждена говорить постоянно? Ничего подобного: она была кристально искренна. Искренна, как, наверное, никогда в жизни.
Здесь необходимо добавить о том, что весь советский народ в то время жутко боялся ядерной войны. Его запугали ею до такой степени, что лишь немногим удавалось избавиться от гнетущего ощущения предстоящего апокалипсиса. Одним из таких немногих был я: ядерный апокалипсис виделся мне привлекательной и волнительной перспективой разрешения конфронтации с миром. Смерть в ядерной войне пугала меня меньше, чем смерть от старости, зато одновременная с моей смертью гибель окружающей действительности представлялась мне едва ли не идеальным разрешением нашего с ней спора. Я жаждал войны, я стремился к ней и даже подумывал написать Рональду Рейгану письмо с просьбой сбросить на наш город ядерную бомбу. Моя соседка, Таня Абросимова, абсолютная дура без всяких скидок и возражений, напротив, как-то раз написала и даже отправила Рейгану письмо с чистым детским призывом остановить ядерное безумие. Об этой её выходке каким-то образом узнало школьное руководство и руководство гороно, Таню заставили читать почему-то снова вернувшееся в Воронеж из Америки письмо перед классом, возили её на какое-то общегородское мероприятие в защиту мира и едва не перевели в нормальную школу, но вовремя передумали. Недалёкие гуманисты из гороно, взглянув в её сумасшедшие очи, вдруг отчётливо поняли, что письмо Рейгану с просьбой о мире — это не осознанный, миролюбивый акт советской девочки, а очередная ступень в её непреодолимой ментальной деградации.
Ядерной войны боялись все. И в народе, в самых широких его массах, включавших даже некоторый процент управленческого звена, твёрдо угнездилось убеждение, что американцы начнут войну ровно тогда, когда умрёт Брежнев. Все так и говорили: «Вот умрёт Брежнев, и будем со Штатами воевать. Обязательно, обязательно будем. Без войны не обойтись».
В том числе и поэтому были жутко напуганы дебилы. Хоть они и не знали таблицы умножения, но пугающий образ смерти являлся порой и к ним, они успели прочувствовать его неприязненный холодок, они успели отшатнуться от него. Умирать дебилы не хотели. А смерть Брежнева в их куцых умишках почти наверняка означала и их собственную смерть.
— Я предлагаю почтить память Леонида Ильича минутой молчания, — закончила свою речь директриса.
Звенящая тишиной и пустотой минута началась. Все трагически смотрели в пустоту и жаждали пережить эту гнусную минуту поскорее. Как вы знаете, минута молчания никогда не длится целую минуту, эти шестьдесят астрономических секунд. Хорошо, если молчащие выдерживают секунд тридцать. Потому что молчать целую минуту, да ещё коллективно — это по-настоящему тяжело. Видимо, и в этот раз молчание длилось бы секунд двадцать пять, но нашёлся человек, который ярко и грациозно испортил всю обедню.
Этим человеком был, конечно же, я.
Я заржал во всё горло, и булькающий мой смех цинично и оскорбительно грозовыми перекатами разнёсся под сводами спортивного зала. Я ржал, потому что выражал этим свой протест против смерти симпатичного мне Винни-Пуха Брежнева, протест против смертей вообще и всей манерной скорби, которая сопровождает их, протест против обстоятельств жизни и паскудного мироустройства, не сумевшего придумать ничего лучше для собственных обитателей, кроме начала и конца. А ещё я ржал потому, что мне было просто очень смешно. Я чувствовал себя Избранным, гигантом мысли и духа, человеком абсолютно и бесповоротно возвысившимся над толпой — ведь всех их вёл один мотив, одно настроение, один чужеродный толчок в определённые эмоции, а меня он не вёл. Я не подчинялся ему, я был ему неподвластен, я был свободен от церемониальных причуд общества, мне и особых усилий не потребовалось, чтобы стряхнуть это наваждение с плеч, я был многократно сильнее его.