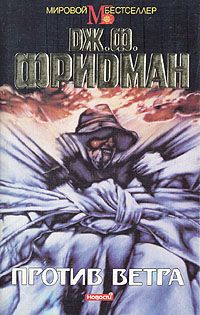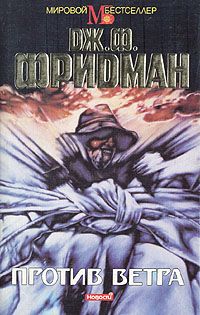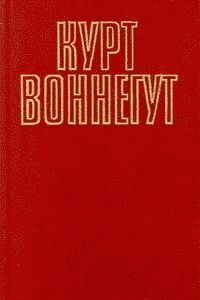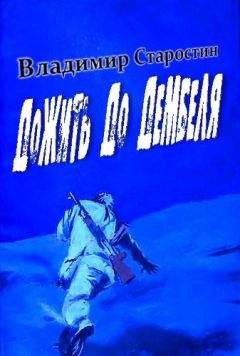Курт Воннегут-мл - Синяя Борода
– Никогда не доверяй выжившим, – часто наставлял меня отец, имея в виду Мамиконяна, – пока не узнаешь, как им удалось выжить.
* * *
Этот Мамиконян разбогател на выделке солдатских башмаков, по заказу английской армии и немецкой армии, которые вскорости начали биться друг с другом в Первой Мировой. Он предложил моим родителям за гроши самую грязную работу. У них не хватило ума скрыть от него – ведь он тоже был армянином, пережившим резню, – что у матери есть драгоценные камни, что они собираются пожениться, и что они хотят поселиться в Париже, присоединиться к большой и высококультурной армянской общине в этом городе.
Мамиконян немедленно стал их самым усердным советником и защитником. Прежде всего он пообещал отыскать надежное место, где драгоценности были бы в безопасности от бессердечных воров, которыми славился этот город. Но родители уже положили их в сейф в банке.
Тогда Мамиконян выстроил иллюзию, которую и предложил им в обмен на камни. Город Сан-Игнасио в штате Калифорния он скорее всего нашел на карте, поскольку ни одного армянина в нем никогда не было, и весть об этом сонном крестьянском поселке никаким образом не могла достигнуть Ближнего Востока. Мамиконян заявил, что в Сан-Игнасио у него живет брат. Он подделал письма от этого брата и предъявил их в качестве доказательства. В письмах говорилось, что брат за короткое время сумел неслыханно разбогатеть. Армян там вообще было немало, и все они хорошо устроились. Их дети теперь нуждались в учителе, свободно владеющем армянским и знакомом с величайшими произведениями литературы, написанными на этом языке.
Чтобы привлечь такого человека, они были готовы продать ему дом на двадцати акрах фруктового сада по цене, составляющей лишь малую долю от его истинной стоимости. «Богатый брат» Мамиконяна приложил даже и фотографию этого дома, и все документы на него.
Как только Мамиконяну удастся встретить в Каире хорошего учителя, который заинтересуется этим предложением, Мамиконян был уполномочен продать ему право собственности. Сделка, таким образом, закрепляла за отцом учительское место и заодно делала его одним из крупнейших владельцев недвижимостью в благолепном Сан-Игнасио.
4
Я так давно имею дело с искусством, с картинами, что прошлое представляется мне в виде анфилады залов в каком-нибудь музее – Лувре, к примеру, где хранится теперь «Джоконда», улыбка которой уже на три десятка лет пережила послевоенное чудо под названием «Атласная Дюра-люкс». Картины в последнем, насколько я могу судить, зале на выставке моей жизни вполне вещественны. Я могу их потрогать, или, следуя рекомендациям вдовицы Берман, она же Полли Мэдисон, загнать тому, кто больше даст, или каким-нибудь иным способом, как она мягко выразилась, «убрать отсюда к чертовой матери».
В воображаемых же галереях, предшествующих ему, находятся мои собственные абстрактно-экспрессионистские полотна, чудесным образом воскрешенные во плоти Всевышним Критиком к Судному Дню, дальше – картины европейских художников, которые я выменивал за пару долларов, плиток шоколада или капроновых чулок во время войны, а за ними – рекламные плакаты, которые я вычерчивал и раскрашивал до того, как завербоваться в армию, примерно в то время, когда я узнал о смерти отца в кинотеатре «Бижу» в Сан-Игнасио.
Еще дальше висят журнальные иллюстрации Дэна Грегори, у которого я служил подмастерьем, пока он не меня выгнал. Мне было без месяца двадцать лет, когда он меня выгнал. За ретроспективой Дэна Грегори выставлены мои детские работы, без рам. Я был единственным художником за всю историю Сан-Игнасио, вне зависимости от таланта и возраста.
А в зале, наиболее удаленном от меня, слабоумного старика, сразу за дверью, через которую я вошел в 1916 году в этот мир, висит не картина, а фотография. На ней запечатлен величественный дом белого камня, с портиком и длинной подъездной дорожкой, якобы в Сан-Игнасио – тот самый, который, по словам Вартана Мамиконяна, мои родители выкупили ценой драгоценных камней, принадлежавших моей матери.
Эта фотография, вместе с подложной купчей, испещренной подписями и заляпанной воском печатей, долго лежала в тумбочке у постели моих родителей, в квартирке над сапожной мастерской отца. Я-то думал, что он их выбросил, когда умерла мать, вместе со всеми остальными мелочами, напоминавшими ему о прежней жизни. Но когда я в 1933 году собрался уезжать из Сан-Игнасио на поезде в Нью-Йорк, чтобы искать там счастья в разгар Великой Депрессии, отец преподнес мне фотографию на прощание в качестве подарка.
– Если когда-нибудь наткнешься на этот дом, – сказал он мне по-армянски, – сообщи мне, где он. Где бы он ни был, он мой.
* * *
Этой фотографии у меня больше нет. После того, как я вернулся в Нью-Йорк из Сан-Игнасио, где я не был пять лет, с похорон отца, на которых, кроме меня, было всего три человека, я разорвал ее в мелкие клочья. Я порвал ее потому, что злился на умершего. Я пришел к выводу, что он обокрал себя и мою мать гораздо хуже, чем их обокрал Вартан Мамиконян. Вовсе не Мамиконян заставил моих родителей осесть в Сан-Игнасио, вместо того, чтобы переехать, например, во Фресно, где в самом деле существовала армянская община, члены которой поддерживали друг друга и, с одной стороны, тщательно сохраняли язык, обычаи и религию, а с другой – строили для себя все более и более счастливую жизнь в Калифорнии. Отец снова мог бы стать учителем, любимым детьми!
Нет, нет, это не Мамиконян своим обманом заставил его стать самым несчастным и одиноким сапожником на свете.
* * *
Армяне великолепно приспособились к жизни в этой стране за то короткое время, что они здесь находятся. Мой сосед с востока – Дональд Касапян, заместитель президента страховой компании «Метрополитен». Таким образом, прямо здесь, в роскошном Ист-Хэмптоне, и к тому же непосредственно на берегу, рядышком обитают сразу два армянина. Бывшая усадьба Джона Пирпонта Моргана в Саут-Хэмптоне принадлежит теперь Кеворку Ованесяну, который владел киностудией «ХХ век – Фокс», пока не продал ее на прошлой неделе.
Армяне отличились не только в области бизнеса. Великий писатель Уильям Сароян был армянином. Профессор Джордж Минтучян, избранный недавно ректором Чикагского университета, тоже армянин. Профессор Минтучян – признанный специалист по Шекспиру. Мой отец мог бы стать таким специалистом.
Цирцея Берман только что зашла ко мне и прочла то, что было на листе, заправленном в пишущую машинку – то есть, десять строк над этой строкой. Сейчас она уже ушла.
Она повторила, что мой отец несомненно страдал синдромом выжившего.
– Всякий, кто еще жив – выживший, а тот, кто умер – наоборот, – сказал я на это. – Так что у всех живущих должен присутствовать синдром выжившего. Или это, или ты мертв. Мне осточертели заявки от каждого встречного, что он, видите ли, выжил! В девяти случаях из десяти перед тобой или миллионер, или людоед!
– Ты так и не простил отца за то, что он был тем, кем не мог не быть, – сказала она. – Поэтому ты кричишь.
– Я не кричу.
– Тебя слышно в Португалии.
Португалия – это то место, где окажется корабль, если отойдет от моего пляжа и будет держать все время на восток. Это она выяснила по большому глобусу у меня в библиотеке. Корабль пристанет в португальском городе Порту.
– Я преклоняюсь перед тем, что пришлось пережить твоему отцу, – сказала она.
– Мне тоже пришлось кое-что пережить! Если вы не заметили, у меня нет одного глаза.
– Ты сам сказал, что боли почти не было, и что рана очень быстро зажила, – заметила она, и была права.
Я не помню самого момента ранения, только выкрашенный в белое немецкий танк и немецких солдат в белой форме, на другой стороне заснеженного поля в Люксембурге. В плен я попал без сознания, потом меня держали на морфии, и очнулся я уже в немецком военном госпитале, разместившемся в церкви по ту сторону границы с Германией. Чистая правда: боли во время войны мне досталось немногим больше, чем человек штатский испытывает в кресле дантиста[16].
Рана зажила настолько быстро, что вскорости меня отправили в лагерь. Я стал самым обычным военнопленным.
* * *
И все же я продолжал настаивать, что тоже имею право на синдром выжившего. Тогда она задала мне два вопроса. Первый был вот какой:
– Кажется ли иногда тебе, что ты – единственный праведный человек, в то время как во всем остальном мире все праведные умерли?
– Нет, – сказал я.