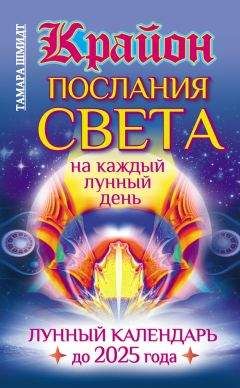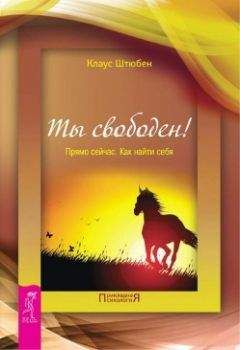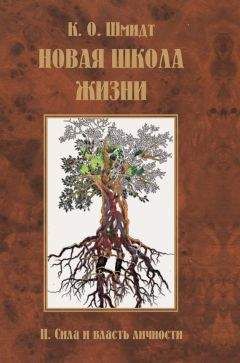Робер Андре - Дитя-зеркало
Поначалу я проявляю энтузиазм, мне непонятно, почему такие занимательные истории могут быть кому-то скучны, я даже прошу самые интересные из них повторить! «Расскажи еще про платок!» — и отец, точно виртуоз, польщенный криками «бис», опять заводит рассказ про солдата-новобранца, которому только что выдали обмундирование. Если верить отцу, армейская форма в его времена или совсем не налезала на рекрута, или висела па нем мешком, и все мелочи экипировки были соответственно неподходящими: так, в своем носовом платке молодой солдат обнаруживает огромную дыру из-за которой платок к употреблению непригоден, и солдат вынужден заявить об этом, но это его начинание, как и следовало ожидать, встречает лишь грозную отповедь и насмешки. «Платочек порвался! — грозно рычал мой отец. — Ну. и ну! Поглядите-ка на этого смутьяна! Давайте сюда ваш платок!..» И отец вытаскивал из кармана платок, разворачивал его над столом л корчил до идиотизма почтительную мину, выпученными глазами разглядывая воображаемую дыру; мать с отвращением на лице разражалась упреками, которые тонули в раскатах моего хохота и на которые исполнитель роли но обращал внимания, думая только о том, чтобы эффектней подать финальную реплику. Он выдержи нал долгую паузу, потом тупая и покорная мина рядового сменялась нахмуренной маской унтер-офицера, гневно выкрикивающего: «Прекрасно! А теперь выверните его наизнанку!»
Он медленно поворачивал платок другой стороной, показывал его матери и опять погружался в созерцание воображаемой дыры…
— У тебя совершенно нет чувства меры. Твоя комедия просто омерзительна! Какой пример ты подаешь ребенку!
Но отец хохотал до слез в полнейшем восторге, а я радостно вторил ему…
До этого времени все шло как будто бы хорошо. Но я все же чувствовал, что, несмотря на свой триумф, отец был раздражен отсутствием единодушия в рядах аудитории, что он немного сердится на зрительницу, которая неуместным вмешательством портит впечатление от его лицедейства. Я ощущал, что между ними вырастает тень, и любопытно, что она все густеет по мере того, как он переходит к каждому следующему анекдоту и анекдоты эти становятся все более двусмысленными и все менее пригодными для детского слуха. Он вел себя все более вызывающе, мать все больше мрачнела, и вскоре даже меня, при всем моем восторге, начинало что-то тревожить. Моя радость достигала пароксизма, прежде мне неведомого, но я пребывал еще в том возрасте, когда полное удовольствие получаешь лишь от тех впечатлений, которые тебе знакомы и повторения которых с нетерпением ждешь. Но что ожидало нас здесь?
Бутылка стояла пустая, глаза отца пылали огнем, в голосе прорывались гневные нотки, он стучал по столу кулаком, и моя душа томилась ностальгией по благоуханной атмосфере чаепитий и мирных застольных бесед, тело же внешне все стремительнее вовлекалось в неистовый ритм отцовских воспоминаний. Он уже презрительно отвергал плоский юмор казарменных анекдотов, он вел нас теперь дорогами воинских подвигов, и я понимал, что он выкладывает свой главный козырь, что он стремится внедрить нам в сознание свой героический образ, — образ, который невозможно оспорить, образ, овеянный славой, образ, который ему надо любой ценой оживить перед той, что была свидетельницей славной эпохи, когда меня еще не было на свете. (Где же я тогда пребывал?) Короче говоря, было ясно: отец тоскует по героическому деянию.
В этом ему чаще всего помогали доспехи, которые он благоговейно хранил в передней, в глубоком стенном шкафу, и впоследствии я не раз буду с наслаждением туда забираться, закрывая за собой — на всякий случай неплотно — дверцу и воображая себя героем, сидящим в укрытии, которое называют землянкой. Я перебираю в этом убежище противогаз, каску, тяжеленную саблю, сделанный из донышка снаряда нож для разрезания бумаг, аксельбант, кепи, заплечный мешок, офицерскую трость, полное снаряжение пуалю, чьи фотографии помещены в многотомной «Иллюстрированной истории войны 1914–1918 годов»; я люблю рассматривать это издание и сожалею, что мне закрыт доступ к самым священным реликвиям — к орденам и револьверу; да, забыл упомянуть еще про одну замечательную вещь — про горн, из которого я тщетно пытаюсь извлечь хоть какой-нибудь звук. У меня для этого слабые легкие. Возясь в шкафу, я то и дело задеваю висящую надо мной офицерскую форму в чехле, карманы которой время от времени набивают нафталином.
Когда наступает час отцовской славы, мне уже хочется сдать, я устал от веселья, которое без передышки царит с той самой минуты, как в замке звякнул ключ, и мать в знак протеста спешит раздеть меня и уложить в большую кровать. С этого наблюдательного пункта я увижу повторенный еще и зеркалом главный номер отца — увижу, как он метнется в переднюю, как будет лихорадочно рыться в стенном шкафу и вытащит мундир на плечиках, потом с торопливостью взломщика ринется в гостиную и закроется там, и с этого мгновения я уже точно знаю, что последует дальше, но я нахожу удовольствие в том, что как будто бы этого но знаю, и с непонятной тревогой жду его появления.
И вот метаморфоза свершается! Распахивается дверь гостиной, и по коридору парадным шагом, с резной тростью под мышкой, в большом надвинутом на ухо берете и при всех орденах дефилирует офицер альпийских стрелков; следом за ним, воздевая к небесам руки, движется женщина; на пороге спальни офицер картинно застывает, будто позирует перед фотоаппаратом, и торжествующе улыбается. Это производит на меня такое же впечатление, как если бы вдруг ожила огромная, в человеческий рост фотография; я хлопаю в ладоши, как в театре, и отец может считать, что выиграл наконец партию, однако мои аплодисменты не вполне искренни. За ними скрывается неясная грусть, возможно вызванная усталостью, а может быть, ощущением, что передо мной и отец, и в то же время кто-то другой, что это такой же двойник, как мое отражение в зеркале или как мое — ненавистное мне — второе «я» в глубине двора; а возможно, моя грусть вызвана еще досадой, что не хватает тут материнского одобрения, и поэтому кажется, что отец весь вечер выламывается напрасно; эта тщета отцовской славы уязвляла меня в самое сердце, я понимал, что ему никогда не удастся придать ей прочность и что здесь даже горн ему ничем не поможет.
Да, горн! Словно во внезапном озарении, а может быть, потому, что он просто не в состоянии так вот сразу сдаться и оборвать свой спектакль, офицер бросает трость, пятится назад в полумрак коридора, и вот уже он опять появляется в проеме дверей, потрясая сверкающим медным горном, принимает позу героев со страниц «Иллюстрированной истории» и подносит мундштук горна к губам. Надуваются щеки, багровеет лицо, и инструмент, из которого мои слабые легкие могли выжать только жалкие вздохи, издает один за другим пронзительные звуки, воспроизводя с грехом пополам уставные сигналы; он трубит, мой отец, трубит зорю или отбой, трубит и трубит во всю мочь, невзирая на позднее время и ничуть не заботясь о том, что в доме уже спят, трубит до изнеможения, я сказал бы трубит так, словно душа прощается с телом, и я, восторженный, но охваченный ужасом, гляжу, как на шее у него вздуваются жилы, и думаю — это будет уже немного позже, когда я чуть подрасту, — думаю про Роланда в ущелье, про императора Карла, который не слышит призыва, про эту песню Роландова рога, которая угасает в крови и смерти. Мне и до сих пор кажется, что из самых дальних глубин моего детства долетают до меня хриплые звуки военного горна, они по-прежнему зовут меня и зовут, а я, как тот предатель, советник Карла, не отзываюсь на них…
После этого спектакля — мама именовала его маскарадом — дом опять погружался в молчание, которое, словно ночная тьма, застилало ноле отгремевшей битвы. Меня переносили в кровать с металлической сеткой, целовали, поправляли одеяло, герой сваливался без чувств, и доспехи его снова занимали свое место в шкафу, а я устраивался поудобней, прижимал к себе любимую обезьянку и с энергией отчаяния принимался сосать большой палец; этот мой жест — сравнение, конечно, нелепое — немного напоминал дующего в свой инструмент горниста. Дурная привычка — именно таковой считают ее взрослые — помогала мне быстрее погрузиться в небытие, я делал это с чувством облегчения, словно торопясь освободить родителей от своего присутствия, как будто предвидел, что вскоре оно станет причиной всяческих затруднений, и моя уверенность в этом все возрастала.
Отца распирает, и он тужится…
Предшествующий эпизод, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к рассказу о моих корнях, на самом деле помогает, благодаря своему воинственному духу и демонстрации героических реликвий, установить слияние этих двух линий — отцовской и материнской. Именно война, легенды о которой будут сопровождать мое детство, предрешила встречу, вызвавшую мое появление на свет. Когда мне случается расспрашивать родителей о временах, которые предшествовали моему рождению, и мне говорят о моем дяде с материнской стороны, одно обстоятельство всякий раз привлекает мое внимание. Мать никогда не упускает случая упомянуть об этой незначительной детали, которой она по неясной для меня причине придает большое значение. «В полковой столовой твой отец всегда покупал добавочную порцию сыра, а твой крестный — добавочную порцию варенья». Так на фоне этих двух несхожих гастрономических пристрастий состоялась встреча двух человек, оказавшихся столь же несхожими, как и их вкусы. Если сыр говорит о наклонностях мужественных и простых, то варенье определенно свидетельствует о большей утонченности и о больших умственных способностях, которые мой крестный, согласно семейной легенде, и вправду проявлял уже с младых ногтей; а я, как вы, должно быть, догадываетесь, тоже больше склонен к варенью, чем к сыру,