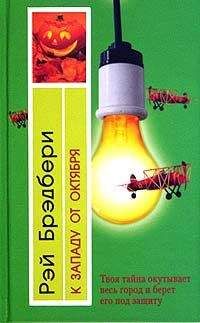Марсель Эме - Ящик незнакомца. Наезжающей камерой
Лена ушла, и мы прошли в столовую, из которой он соорудил себе подобие кабинета. Стол был завален кипами книг и листками бумаги, исписанными его рукой.
Теперь, когда мы остались одни, я мог рассмотреть его лучше. На его красивом лице, сохранившем юношеские черты, несмотря на его двадцать четыре года, появилось выражение безмятежности, от которого у меня сжалось сердце. Он всегда превосходил меня более широким и более ясным умом, но наша совместная жизнь, моя забота о его здоровье, о его учебе создавали тогда между нами тесную близость. Мне было больно, что я не нахожу ее вновь. От этого я чувствовал себя неловко. Я спросил у Мишеля, чем он занимается. Ничем, ответил он, и в его ответе не прозвучало ни нотки вызова. Озабоченно-задумчивый, он даже не взглянул на меня, чтобы увидеть мою реакцию. Не заниматься ничем казалось ему само собой разумеющимся. Я растерялся.
— А театр? Дело ведь шло неплохо. У тебя была роль.
— Да, маленькая роль. Я потом получил и другую, побольше, но бросил, надоело. Все выходило слишком легко, слишком естественно, чтобы заинтересовать меня. Понимаешь, я сразу завоевывал публику, но вот именно этот контакт был мне неприятен. Я раньше думал, что театр должен держать зрителей на расстоянии от сцены, по правде говоря, я и сейчас так считаю. Ну а как было в тюрьме?
Когда я рассказал ему о том, как я жил в заключении, он заметил:
— Думаю, мне бы понравилось. Видеть мир через решетки тюрьмы…
В том, как он представлял себе тюрьму, чувствовалось что-то книжное, от чего вполне могло сделаться не по себе человеку, только что вышедшему оттуда, но я не стал придавать этому значения. Указывая на разбросанные по столу листки, я заметил, что чем-то же он все-таки занимается.
— Я не занимаюсь ничем, чтобы зарабатывать на жизнь, — вот что я имел в виду, когда ответил тебе. А это — это я пишу пьесу или, если хочешь, пытаюсь писать. Что ты на это скажешь?
Я ничего не мог сказать. Это развлечение было, несомненно, не хуже других. Из вежливости я спросил о сюжете.
— Любовь, — ответил Мишель. — Поскольку я никогда не влюблялся, то решил или скорее притворился, будто могу говорить о ней со всей требуемой объективностью. А правда в том, что я всегда испытывал чувство обиды к любви из-за того, что мне в ней отказано. Сначала я пытался написать эссе, но очень скоро оставил эту затею…
Мишель взял со стопки книг тетрадь в синем переплете и протянул ее мне. Я взял, но открывать сразу не стал.
— В итоге театр мне показался, если не более ясным, то во всяком случае более прямым средством самовыражения, которое способно подсказать мне конкретную форму пока еще нетвердых идей.
Тут Мишель склонился над столом и, читая глазами один из листков с нанесенным на него диалогом, зачеркнул карандашом последнюю реплику.
Затем он сел, чтобы лучше оценить текст после сделанного исправления, а я устроился напротив и открыл синюю тетрадь. В ней было исписано всего страниц сорок, которые пестрели поправками и вставками, однако все было написано очень четким почерком. Мишель, погрузившись в творчество и исправления обо мне забыл.
III
Синяя тетрадь
Малый иллюстрированный толковый «Лярусс», уважаемый мною, дает следующее определение любви: «Чувство, влекущее сердце к тому, что его сильно притягивает».
Я исследую слово «сердце», которое употреблено здесь в фигуральном смысле и может, следовательно, вызвать некоторое удивление. Тот же «Лярусс» говорит, что это «расположение души», и в довершение определяет душу как «начало жизни». Итак, я узнал достаточно, чтобы убедиться — любовь, как это ни странно, можно определить метафизическими понятиями. Надо учитывать, что малый «Лярусс» одно из серьезнейших изданий в стране. И если уж он идет на ошибку и на неясность, то, значит, не мог иначе.
Предположим, что Ромео женился на Джульетте, прожил с ней полгода и вдруг к ним заявляется марсианин и заводит такие речи:
— Господин Ромео, у нас, у марсиан, нет пола. Четыре-пять раз за жизнь у нас на голове вырастает волос, который мы высаживаем в песок, поливаем трижды в неделю на протяжении года, пока из него не вырастет маленький марсианин. Теперь остается лишь вырвать его и пустить бегать на воле. Я знаю, что у вас, землян, все иначе, и я много слышал о любви. Мне говорили, что ваша с госпожой Джульеттой любовь совершенно необыкновенна. Не могли бы вы, господин Ромео, объяснить мне, что же такое любовь?
— Охотно. Любовь, сударь, это экстаз, от которого при упоминании имени «Джульетта» у меня тает сердце, а сам я становлюсь легче птицы.
— Значит, вам доводится иногда летать?
— Нет, сударь, нет. Это просто так говорят.
— Хорошо. Но все ж таки, вы говорите, что сердце ваше тает, и случается это, очевидно, довольно часто, так вот, не опасно ли это для вашего здоровья?
— Прошу извинить меня. Разумеется, сердце мое не тает по-настоящему, это так говорится.
— Господин Ромео, умоляю вас, будьте серьезным. Попытайтесь, пожалуйста, изъясняться более конкретно.
— Это трудно, сударь. Для меня любовь — это непреоборимое влечение, которое я всем своим существом испытываю к существу Джульетты.
— Именно такое определение мне и хотелось услышать — ясное, четкое, краткое. Итак, Джульетта непреоборимо влечет к себе вашу печень, селезенку и ваши кишки.
— Сударь, ваши слова неприличны, но я принимаю во внимание ваше невежество. Конечно же, ни моя печень, ни моя селезенка, ни мои кишки в этом деле не участвуют.
— А кожа ваших ляжек?
— Сударь!
— Но поскольку ваша печень, селезенка, кишки и кожа ваших ляжек, являющиеся неотъемлемой частью вашего существа, никак не затронуты тем влечением, которое вы испытываете к госпоже Джульетте, то нужно бы подыскать другое определение любви.
— Но, сударь, когда я говорю «всем своим существом», я имею в виду, разумеется, всю свою душу. Я говорю именно в таком разумении.
— Каком разумении, господин Ромео?
Как видим, не так-то легко растолковать эту любовь, тем более столь мало искушенному в этом смысле существу, как бесполый марсианин. И Ромео, и малый «Лярусс», оба знающие жизнь, оба одинаково любезно говорят о сердце и о чувствах, однако некоторые утверждают, что любви нет, что все сводится к инстинкту размножения, нашедшему себе особый предмет влечения, а уж все остальное довершает воображение, словесный бред и инстинкт обладания. «Прелестная моя Миньона, — говорят они, — когда вы погружаете ваш взгляд в глаза Гонтрана, то чувствуете, как тает ваше двадцатилетнее тело и вашим устам хочется произносить слова благодати. Нам же, ученейшим старым пням и вполне материалистическим старым пенькам, которые над многим смеются, нам также случается чувствовать, как тает наше старое иссушенное тело, как с наших серых губ слетает восторженный лепет, но, чтоб вы знали, случается это с нами, когда апрельским утром мы видим сверкающие капельки росы на нарциссе. Нет, прелестная, ваш инстинкт размножения не сублимировался, как утверждается в ваших письмах к Мини, но у вас очаровательный ум, вам нравится красиво устраивать ваши делишки, и вы освоили искусство скрывать наготу вашего желания под гармонией любезностей. Но при всем этом, — говорят они же, — ваше такое красивое чувство к Гонтрану — это лишь желание самки, отличающееся от желания коровы только частотой проявления». Краска заливает лицо, когда приходится приводить такие слова. Сразу же условимся, что инстинкт размножения — это простая точка зрения разума или скорее пустое выражение, не означающее ничего конкретного. Что касается желания, к которому эти злые языки пытаются свести любовь, то всем известно, что оно участвует здесь в качестве простого ингредиента и даже не является необходимым. Ведь больше четверти женщин фригидны. Это значит, что только во Франции добрых несколько миллионов женщин, не испытывающих ни малейшего желания, влюблены тем не менее в мужчину, а то и в нескольких по очереди, и ведут любовную жизнь.
Дать определение чему-то — значит убрать бесчисленные значения, которые могло бы придать этому чему-то наше невежество, а значит, и покончить с бесконечностью относительно этого чего-то. Я нахожу полезным и удовлетворительным для разума давать определения таким словам, как «сутана», «бигуди» или, например, «бандаж». Мне стало бы не по себе и как-то тревожно, если бы слово «сутана» не удалось удержать в пределах подходящего определения и оно приняло бы в умах людей чрезмерную значимость и раздулось до бесконечности. То же самое можно сказать и о словах «бигуди» и «бандаж». Например, есть слова, пытаться ограничивать смысл которых было бы пустой затеей и которые выходят за рамки любых определений. Это самые красивые и самые опасные слова в языке, те, что расширяют наш мир, но заставляют нас нести чушь, если мы не поостережемся их слишком смутных очертаний. Пользоваться ими в суждениях значит заранее обречь свои речи на провал. Мне кажется, что «любовь» как раз и есть одно из таких слов, и на месте «Лярусса» я не стал бы рисковать авторитетом, пытаясь выдумать невозможное опрэделение, а вот как бы классифицировал его: «Чудесное слово, но также и слово-затычка с меняющимся почти до бесконечности значением; очень часто употребляется в совершенно разных фразах, как то: Он сказал баронессе, что слагает к ее ногам свою любовь и свое состояние. — Он любил ее глубокой любовью. — Его любовь была возвышенным чувством. — Марселина знала, что может рассчитывать на сильную любовь. — Четыре дня они жили большой любовью. — Он любил ее, но какой-то пресной любовью. — Он любил ее обжигающей любовью. — К несчастью, любовь Алкида оказалась неразделенной. — Леония не отвечала на его любовь. — Любовь старого богача была противна Леонии. — Любовь слепа. — Любовь чрезвычайно проницательна. — Молодой человек испытывал любовный голод. — Она могла принять только честную любовь. — Это была „курортная“ любовь. — Извращенная любовь Максимина, любовь, противная природе Франчески, животная любовь Бальтазара возмущали бедняжку. — Пьер и Полетта переживали прекрасную любовь. — Я умираю от любви. — От любви не умирают. — По сравнению с безумной любовью Огюста любовь Эрнеста была уж слишком обыденной. — Вы любовь моей жизни. — Она познала любовь во время праздника 14 июля в подворотне. — Любовь предстала Эрмелине в виде смуглого мужчины. — Убийца из-за любви, он зарыдал, припав лицом к трупу. — Это была первая любовь Андреа. — На руинах этой первой усопшей любви должна была скоро возродиться и расцвести новая любовь. — Любовь Мельхиора быстро растаяла. — Зрелище, представшее глазам Антуана, обрезало крылья его любви. — Любовь не знает преград. — Самая искренняя любовь в конце концов устает от связывающих ее пут. — Любовь снисходительна. — Любовь требовательна. — Любовь не приходит по заказу. — Когда открылось, что Эдмонда его дочь, Фламиний изгнал из сердца эту преступную любовь».