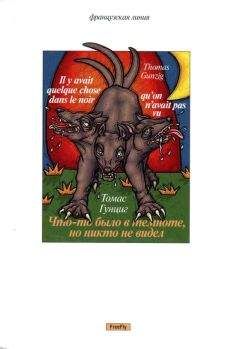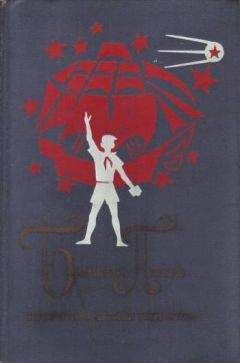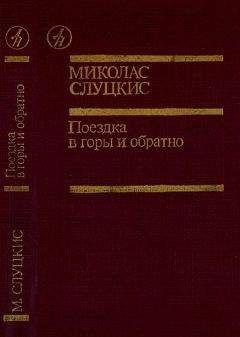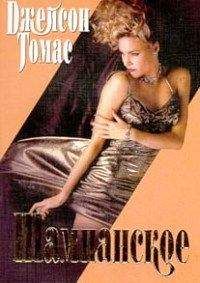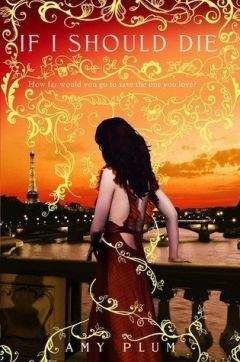Миколас Слуцкис - На исходе дня
— Смотри… чтоб… никому! — встряхивает меня изменившийся, сипящий голос, доцент начинает шевелиться, стонет, и мы отскакиваем от забора. Черная пасть улочки проглатывает сначала его, потом меня; мне тошно, все время перед глазами желтая полоска на ладони Виктораса — вора, уже не друга-приятеля, а вора! — оказывается, его жадность к жизни была не жадностью силача, спортсмена, не азартом гонщика, хоть до этого он никогда не крал, а просто воровской алчностью! Мы и раньше пошаливали, да, но чтобы красть? Сломать, разбить — пожалуйста, это даже нужно, чтобы прошел треск по миру, а то иной человечек уверует, что его жалкий садовый домишко — неприкосновенный алтарь, который можно лишь украшать розами и лилиями! Никогда не возникало сомнения, орать или не брать чужое, и в мыслях такого не было, а теперь мне невдомек, что таится под чугунным лбом Виктораса, и поэтому на меня накатывает тошнота, словно заставили мы доцента рвать кровью, а ведь ничего этого не было — чисто уложили, даже встал без посторонней помощи, одернул штанины, чтобы не торчали из-под них трикотажные кальсоны. Мысленно я все еще видел его: бредет, будто не на своих ногах, по гулкому переулку отдается эхо шагов, и совсем непохож на того, кому есть за что всыпать — целый год не прекращает осады Але. Трехкомнатная кооперативная квартира, стильная югославская мебель, ковры, камин, правда электрический, но разве устоять против такого шика простой девчонке, у которой всего добра-то — кроватка в общежитии да пара платьиц? Сорок лет и доцентская лысина, прикрытая тирольской шляпой, конечно, не великий подарок, но был слушок, что Але уже побывала там, в этом кооперативном раю из красного дерева, грелась у электрокамина, Викторас не сомневался, что не только грелась, однако за каким чертом сменял он самородок мести на грязь желтого металла, почему, даже сняв часы, не бросился, опамятовавшись, обратно: мол, извините, гражданин, не ваши ли? Бегу, а тут — дзинь — какие-то часишки под ногами…
Погасший было в спальне свет снова вспыхнул, снова зазмеилась под дверью полоска, гребень яростно расчесывает всклокоченные волосы Дангуоле, сейчас выпорхнет из клубка ее мыслей какая-нибудь одна, и, укрепившись в ней, мать сможет бороться если не со всем миром, то, по крайней мере, со своей собственной неуверенностью, немодной одеждой или чем-то другим. Уж не учуяла ли она золота, что не дает мне покоя? Слишком много думал я о Викторасе и прочем. Матери я, конечно, не боюсь, сколько себя помню, всегда горой стоит за меня против отца, когда он, оторвавшись от больницы, вдруг недоуменно уставится на своего отпрыска. Но быть у нее на подозрении неприятно: за всю жизнь к ее рукам и пылинки чужой не прилипло, хоть и фыркает на отца — не добытчик. И я не желаю чужого, не прикоснулся ведь к добру доцента! Только вежливо поздоровался и глазел на происходящее в качестве свидетеля — какая радость Викторасу, если никто не увидит, как доцент лижет ботинок сорок шестого размера?! Но, странное дело, чем больше об этом думаю, тем явственнее ощущаю: к моему лицу, к ладоням, даже дыханию все сильнее липнет воровской запах, запах трусливого пота… и несет уже от меня, словно от залежавшегося в витрине кулинарии полуфабриката. А кулак все покачивается перед глазами — здоровенный, тяжелый, при одном взгляде на него перехватывает дыхание; может, мне так тошно из-за того, что подчинился грубой силе, струсил, а совсем не от поругания моей врожденной честности, которой я втайне всегда гордился, готовясь к более крупной игре?.. Боязнь почувствовать себя не столько избитым, сколько униженным, сопровождала меня с детства — рос слабаком, все время подстерегали бронхиты, ларингиты, синуситы, пневмонии; повыжимав штангу и поносившись на велосипеде, оброс мускулами, однако сохранил в памяти те послеполуденные часы, когда трусливо пробирался из школы боковыми улочками, чтобы избежать встречи с мальчишками, которые могли наподдать, отобрать копейки…
— Ригас, ты не спишь?
Задумавшись, я позабыл о Дангуоле, а ведь между тем это она, растормошив ночь, заставила меня с омерзением вспоминать о позавчерашнем.
— Сплю. С открытыми глазами.
— Можешь серьезно? Я не шучу. Уезжаю.
И без слов ясно, не шутит. Высокие сапоги, полупальто под кожу, круглый, как шлем мотоциклиста, поблескивающий искусно уложенными завитками парик вместо взъерошенного гнезда, над которым мое воображение разметало встревоженных птиц, — что же еще это могло значить? Разочаровалась в сыне, в муже, к плечу его так редко доводится теперь прильнуть своей маленькой головкой, которую нахлобученный парик делает еще меньше?
— А… Ключа не увези.
— И это все? Больше ничего? — От неожиданности Дангуоле даже присела, но тут же вскочила. — Ключ на подоконнике в кухне, и расчетная книжка там же, не забудьте за квартиру заплатить.
Я молчал, ожидая продолжения, она с рюкзаком в руке поднималась на цыпочки, чтоб казаться выше, решительней. С вечера все зевала, глотала нембутал вперемежку с валерьянкой, и вот — как пружина… Что ей, видение какое-то во сне было, и вот бросилась догонять его? Или, подчиняясь неведомому зову, очертя голову несется куда-то, как семнадцатилетняя? Задумала совершить некий вольт, перед которым померкнут предыдущие? Я все больше дивился ей, все сильнее ощущал нашу схожесть; если уж на то пошло, следовало бы мне самому уложить ее рюкзачок, а не втихомолку подсказывать ей разные ходы… Что я сызмала, вначале неосознанно, презирал в этой женщине, так это необдуманные сальто-мортале ее действий и мыслей, которые смущали мой душевный покой. То и дело приходилось смотреть на нее, словно на какой-то световой эффект, неизвестно, на каких физических законах основанный и потому неповторимый. Теперь же, вдоволь налюбовавшись тупой мордой Виктораса, на которой интеллект отпечатал единственную морщинку, я чуть ли не с восхищением глядел на приятное и умное лицо Дангуоле, одухотворенное новой идеей. Пусть эта идея испарится от первого же утреннего луча или царапанья отцовского ключа в двери. А уж тем более рассыпался бы весь ее замысел, скажи я хоть словечко поперек. Да, у меня были такие слова, я держал их, как камень за пазухой. Не заикнется о том треклятом золотом браслете — смолчу.
— Я все взвесила. Меня ждут в экспедиции. Я просто обязана, сын… Не могу, и все!
Слова-то какие! Небудничные и не ко мне обращенные, к тем — непонимающим, завидующим, их, может, и в помине нет, выдумала себе враждебно кишащий муравейник. «Экспедиция» — можно подумать, не местных киношников в захолустный городок занесло, а исследователей на Северный полюс, и она, Дангуоле Римшайте-Наримантене, летит спасать затерявшихся во льдах людей.
— Наримантас не поймет. Он неисправимый эгоист. Но ты, Ригас… Я задыхаюсь. Меня просто убивает эта тишина, бездействие. Жиреть стала, представляешь? Старая, жирная… Брр!
Губы мои расползлись толстой гусеницей, ненавидел я эту свою гнусную привычку — нахально улыбаться, когда следовало бы грустить, если не плакать.
— Не думай, сынок, я прекрасно понимаю все возможные последствия своего шага, — она загорелась, как солнечный лучик, и это было очаровательно, не лепет самооправдания, а вот эта ее мгновенная вспышка. — Может, сначала вам придется трудновато… Да и всем нам будет нелегко. Зато станем уважать друг друга. Ведь ты меня не уважаешь?
Бормотнул в ответ что-то невразумительное, подленькая гусеница сорвалась с губ, сплющилась о железобетонную стену, как лианами, исполосованную потеками — соседи сверху не раз заливали.
— Я понимаю, свои жизненные сложности есть и у молодых. Вот и у тебя, сын, какие-то неприятности… но…
Это «но», признающее де-юре неприятности сына, спасло Дангуоле — я не бросил ей висевшего на кончике языка слова правды, не испортил столь эффектно начатого взлета. Удовлетворенный своим великодушием, я снова был в состоянии взирать на нее сверху вниз; она уже словно на раскаленных угольях топталась — ей не терпелось поскорее смыться, а я продолжал валяться, поглядывая на белое шелковое кашне в вырезе ее полупальто. Не для тепла надела — прикрыть предательские морщины на шее. По сравнению с Але, из-за которой Викторас превратился для меня в тайну, маменька совсем столетняя старуха.
— Чего уставился? — Дангуоле покраснела, не потеряла еще способности краснеть, да и совсем она не старая — едва за сорок перевалило недавно, лишь полгода назад, и такая, как сейчас — сияющая, в аккуратном парике, с рюкзачком и словами, более приличествующими какой-нибудь девчонке, — она умиляла меня до комка в горле… На лестнице послышались шаги. Она вздрогнула, крепко прижала рюкзачок к бедру. Отец? Если бы вдруг разгорелся между ними спор, я без колебаний встал бы на сторону матери. Нет, не он; вкалывает по обыкновению в своей больнице, и если следовало защищать Дангуоле от кого-нибудь, то в первую очередь от нее самой. Чего же она медлит, раз паруса уже подняты? Каждый должен бороться за себя… И мать, суетливо мечущаяся по жизни, и отец, хотя он и пальцем не желает шевельнуть ради семьи… Ну а я? Что будет со мной, когда вострубит труба? — Я знала, Ригас, ты поймешь меня! Ведь ты уже взрослый, совсем взрослый? — Дангуоле торопилась высказаться за себя и за меня, чтобы не дать мне возможности ляпнуть что-нибудь, что испортило бы столь редкое наше согласие. Поскрипывало ее полупальто из кожзаменителя, нервные пальцы теребили пуговицы, шуршал парик, который она беспрерывно поправляла. Присела, снова вскочила — бесцельно теряла дорогие мгновения подчинившегося ей времени, чтобы унести в памяти невинный лик сыночка? Таким славным и умиротворенным я бывал, пожалуй, лишь во младенчестве, когда меняли пеленку…