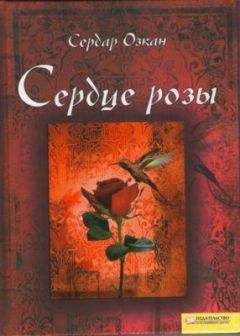Джон Ирвинг - Мир от Гарпа
«Мы и так довольно быстро деградируем, — писал Гарп, — и без помощи зенитного огня».
В больнице еще до появления сержанта Гарпа был раненый со схожими повреждениями головы. Несколько месяцев он чувствовал себя вполне сносно, беседовал сам с собой, изредка мочился в постель. Потом начали выпадать волосы, появились нарушения речи, а перед самой смертью стали расти молочные железы.
Исходя из всей имеющейся информации, а также из рентгеновских снимков, Дженни Филдз заключила, что Гарп, по всей видимости, безнадежен.
Но она находила его очень милым. Бывший башенный стрелок был маленький, изящный человечек, невинный и непосредственный, как двухлетний ребенок. Он кричал: «Гарп!», когда был голоден или чему-нибудь радовался; произносил «Гарп?» с вопросительной интонацией, когда был чем-то озадачен или беседовал с незнакомым человеком, и спокойно говорил «Гарп», узнавая собеседника. Обычно он делал все, что ему говорили, но целиком на него нельзя было положиться: он быстро все забывал. К тому же вел себя то как послушный шестилетний ребенок, то как любопытный двухлетний малыш.
В депрессию он впадал, судя по истории болезни, всякий раз, когда у него вставал член. В такие минуты он сжимал свой бедный выросший «питер» забинтованными руками и плакал. Он плакал потому, что марля не доставляла ему того удовольствия, запечатлевшегося в искореженном мозгу, какое доставляли ладони, к тому же всякое неосторожное движение причиняло рукам сильнейшую боль. В такие минуты Дженни Филдз приходила ему на помощь. Она чесала ему спину между лопатками, пока он не начинал жмуриться, как кот, и все это время разговаривала с ним, меняя интонации, чтобы удерживать его ускользающее внимание. Обычно медсестры говорили с больными ровным убаюкивающим голосом, но Дженни понимала, что Гарпу нужен вовсе не сон. Он был маленьким ребенком, и ему было скучно; значит, его надо развлекать. И Дженни старалась вовсю. Она включала радио, но некоторые передачи расстраивали Гарпа; почему — сказать никто не мог. От других у него моментально вставал член; в результате — очередная депрессия и так далее. Однажды от какой-то передачи у Гарпа произошла поллюция; это так удивило и обрадовало его, что ему с тех пор доставляло удовольствие просто смотреть на радиоприемник. Но увы! Дженни не могла повторить ту передачу, а никакая другая не имела подобного действия. Она знала, что, если бы удалось подключить бедного Гарпа к «поллюционной» программе, это намного облегчило бы ей работу и скрасило ему жизнь. Но, к сожалению, легкие пути в жизни выпадают редко.
Она долго пыталась научить его новым словам, но у нее ничего не выходило. Когда она кормила Гарпа и видела, что еда ему нравится, она говорила:
— Хорошо! Это хорошо!
— Гарп, — соглашался он.
А когда он выплевывал еду на слюнявчик, скорчив жуткую гримасу, она говорила:
— Плохо! Это плохо, правда?
— Гарп! — следовал стандартный ответ.
Первым признаком ухудшения его состояния для Дженни стало исчезновение в единственном слове звука «г». Однажды утром он встретил ее радостным «Арп».
— Гарп, — строго сказала она ему. — Гарп.
— Арп, — повторил он. И Дженни поняла, что конец близок.
Его возраст, казалось, уменьшается с каждым днем. Во сне он теперь махал сжатыми кулачками, его губы вытягивались в трубочку, щеки двигались, как при сосании, веки дрожали. Дженни долго общалась с младенцами и потому знала: башенный стрелок сосал во сне материнскую грудь. Она даже подумывала, не взять ли в родильном отделении пустышку, но у нее не было ни малейшего желания там появляться: шутки акушерок теперь раздражали ее. («А вот и наша Дева Мария явилась за соской для своего чада. Дженни, а кто же счастливый отец?») Она смотрела, как сержант Гарп сосет во сне, и воображала последние стадии его жизни: тихо, безмятежно вернется он в зародышевое состояние и перестанет дышать легкими; затем его душа счастливо разделится надвое — одна забудется грезами яйцеклетки, вторая — снами сперматозоида. И, в конце концов, его просто не станет.
В общем, к этому все и шло. Младенческая стадия так усилилась, что Гарп стал просыпаться для кормления каждые четыре часа; он даже плакал теперь, как младенец: у него краснело лицо, катились слезы и тут же высыхали, стоило Дженни заговорить или включить радио. Как-то она почесала ему спину и он срыгнул. Дженни не выдержала и расплакалась. Она сидела у его изголовья и молила Бога, чтобы он даровал ему быструю, безболезненную дорогу в материнскую утробу и дальше в небытие.
Хоть бы руки у него зажили, думала она; тогда он мог бы сосать свой палец. Просыпаясь, он начинал требовать грудь, Дженни давала ему собственный палец, он хватал его губами и начинал сосать. И хотя у него были вполне крепкие зубы взрослого человека, он ни разу не укусил ее: очевидно, в его младенческом восприятии десны у него были беззубые. Это и толкнуло Дженни как-то ночью дать ему грудь. Он сосал ее пустую грудь с вожделением, и Дженни почувствовала — если так пойдет дальше, у нее появится молоко. Однажды она ощутила в своем чреве сильный толчок, наполнивший ее неведомым чувством, материнским и сексуальным одновременно. Воображение ее разыгралось, и она на миг всерьез поверила, что сможет забеременеть просто оттого, что «грудной» башенный стрелок будет сосать ее грудь.
Так все и шло, но оказалось, стрелок Гарп не весь еще обратился в младенца. Однажды ночью, когда он сосал ее, Дженни заметила, что его член приподнял простыню; неуклюжими забинтованными руками Гарп тер его, всхлипывая от огорчения и не отпуская груди. Тогда Дженни решила ему помочь: взяла источник его мучений своей прохладной, напудренной тальком рукой. Гарп сразу же перестал сосать и начал просто тыкаться в ее грудь.
— Ар, — простонал он. Теперь пропало и «П».
Сначала «Гарп», потом «Арп» и вот теперь только «Ар»; она знала — он умирает. Остались только одна гласная и одна согласная.
Когда он кончил, его сперма, мокрая и горячая, наполнила ее ладонь. Под простыней пахло, как летом в оранжерее; это был запах неслыханного плодородия, неукротимого и безграничного: что ни посади — расцветет. Достаточно плеснуть ее в оранжерею, и дети будут расти, как грибы.
Дженни дала себе на размышление ровно сутки.
— Гарп! — прошептала Дженни.
Она расстегнула платье и обнажила грудь, которую всю жизнь считала слишком большой. «Гарп?», — шепнула она ему на ухо; его веки вздрогнули, губы потянулись к ней. От остальной палаты их отгораживала задернутая занавеска, белым саваном обволакивавшая кровать Гарпа. По одну сторону лежал «наружный»; бедолага попал под огнемет. Весь скользкий от мази, забинтованный с головы до пят, он к тому же был без век, из-за чего казалось, что он постоянно за всеми наблюдает; на самом деле он был слеп. Дженни сняла прочные медсестринские туфли, отстегнула белые чулки, сбросила платье. И прижала палец к губам Гарпа.
По другую сторону его кровати лежал пациент из числа «полостных», постепенно превращавшийся в «отрешенного». У него не было почти всей нижней части кишечника и прямой кишки; недавно начала барахлить почка, а боли в печени прямо-таки сводили его с ума. По ночам ему снились кошмары: его заставляют мочиться и испражняться, хотя эти отправления остались для него в далеком прошлом. Теперь они проходили незаметно, организм опорожнялся через трубочки, соединенные с резиновыми мешками. Он часто стонал, но, в отличие от Гарпа, произносил при этом целые слова.
— Дерьмо! — простонал он.
— Гарп, — прошептала Дженни. Она сняла комбинацию, трусики, бюстгальтер и сдернула с него простыню.
— Господи, — прошептал «наружный»; его губы были все в волдырях от ожогов.
— Чертово дерьмо! — прокричал «отрешенный».
— Гарп, — сказала Дженни Филдз и взяла в руку его вставший член.
— А-а-а, — сказал Гарп. Теперь уже пропало и «Р». Для выражения всей гаммы чувств у него осталась одна-единственная гласная.
— А-а-а, — повторил он, когда Дженни ввела его член в себя и всем своим весом опустилась на него.
— Гарп, — позвала она. — Все о'кей, Гарп? Тебе хорошо?
— Хорошо, — отчетливо произнес он. Это слово всплыло из глубин его искалеченной памяти в то мгновение, когда он кончил внутри нее. Первое и последнее настоящее слово, услышанное Дженни от Гарпа. Как только его член опал, он опять протянул свое «а-а-а», сомкнул веки и заснул. Дженни хотела дать ему грудь, но он даже не пошевелился.
— Боже мой, — произнес «наружный», едва ворочая обожженным языком.
— Ссать! — крикнул «отрешенный».
Дженни Филдз вымыла Гарпа, вымылась сама с мылом, налив теплой воды в белый эмалированный таз. Спринцеваться она, конечно, не стала, у нее не было ни малейшего сомнения — чудо свершилось. Она ощущала себя тучной, плодоносной почвой; Гарп щедро оросил ее, как будто пролил живительную влагу на засыхающую цветочную клумбу.